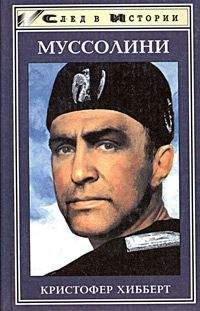А Крымов все шел и смотрел на серую землю под ногами.
Желтая медленная пыль и черный быстрый дым закрыли толпу, грузовики, подводы на правом берегу, и по ставшему вдруг пустым мосту, согнувшись, пробежал человек без пилотки.
Когда Крымов подошел к мосту, щупленький юноша лейтенант, комендант переправы, с красной перевязью на рукаве, держа в руке пистолет, бежал к машинам и кричал:
— Вот видишь это, кто без моего приказа выедет на мост! Все назад!
Судя по голосу, кричал он так не первый день.
Водители, не отряхивая песка и пыли, вылезали из щелей, садились в кабины, торопливо заводили моторы, и машины, стоя на месте с заведенными моторами, дрожали.
Водители оглядывались на коменданта, который мог и в самом деле пристрелить, поглядывали, не летят ли обратно немцы, и, едва комендант отворачивался, тихонько нажимали, продвигались к мосту — деревянные кладки через реку гипнотизировали, притягивали их.
Когда какая-нибудь машина выезжала на полметра вперед, то и соседняя тотчас рывком подавала вперед. И за второй третья, за третьей четвертая, за четвертой пятая… Это напоминало игру: захоти первый подать назад, он не смог бы — задние подпирали впритирку.
— Пока не подадите назад, ни одного не пущу,— в бешенстве крикнул комендант и в знак святости своих слов поднял вверх пистолет.
Крымов взошел на мост, ноги после песка зашагали по доскам легко и свободно, сырая свежесть реки коснулась его лица.
Крымов медленно шел по мосту, и спешившие навстречу пехотинцы, глядя на него, сдерживали шаг, оправляли гимнастерки и отдавали ему честь. Отдача приветствия по форме в такие минуты значила немало. Крымов хорошо понимал это. Он видел, как на такой же переправе два дня назад генерал, открыв дверцу легковой машины, крикнул в толпу, шагавшую по мосту:
— Куда вы? Посторонитесь! Дайте проехать!
И пожилой красноармеец, положив руку на крыло машины, сказал необычайно добродушно, лишь с легкой укоризной, как крестьянин говорит крестьянину:
— Куда, куда, сами ведь видите, туда, куда и вы,— жить-то всем хочется.
И в этом солдатском простодушии было нечто такое, что заставило генерала молча и поспешно захлопнуть дверцу.
Здесь, на переправе, Крымов сразу же ощутил свою силу, силу человека, который медленно шел по мосту на запад, навстречу уходившим на восток.
Крымов подошел к коменданту переправы. Лицо лейтенанта выражало ту крайнюю усталость, когда измучившийся человек знает: осталось лишь доводить дело до конца, а отдохнуть не придется.
В таком состоянии уже не мечтают о хорошем, а думают: «От долга своего не отступлюсь, но хоть бы скорей голову оторвало».
Он посмотрел на Крымова с недобрым выражением, уже готовый ответить отказом на все его просьбы, заранее зная, о чем поведет речь батальонный комиссар: как бы пропустить машину без очереди, то ли в ней раненый полковник, то ли нужно доставить в тыл необычайно важный документ, то ли сам командующий фронтом генерал-полковник ждет батальонного комиссара, часа не может без него обойтись.
— Мне туда,— сказал Крымов и указал рукой на запад,— как бы проехать?
Лейтенант вложил пистолет в кобуру и сказал:
— Туда — это я сейчас сделаю, пропустим.
Через минуту два регулировщика, махая флажками, стали расчищать проход для машины, водители грузовиков, выглядывая из кабин, передавали друг другу:
— Подай немного назад, тогда я подам назад, надо пропустить, на передовую командир спешит.
Крымов, глядя на быстро, вмиг расшитую пробку, подумал, что жажда наступления живет в отступающей армии; сейчас это проявилось в мелочи, в том, как охотно и легко охрипший, осатаневший от грохота, крика, усталости мальчик-комендант, регулировщики и шоферы устраивали проход для одинокой легковушки, пробирающейся к фронту.
Крымов вышел на мост и, замахав рукой, протяжно позвал:
— Семёнов, давай сюда!
В это время послышался крик: «Воздух!» — и тотчас несколько голосов поддержало:
— Летят, летят, обратно идут! Прямо на переправу!
Крымов, не оглядываясь, злобно кричал:
— Давай сюда!
Но вот за машиной поднялось облачко пыли, очевидно, Семёнов, в душе ругая своего комиссара, включил мотор и ехал к мосту.
— Давай скорей! — крикнул Крымов и топнул ногой.
На плоских понтонах, упершись грудью в настил моста, стояли два красноармейца. Их службу на понтонах считали тяжелой даже саперы и регулировщики, обслуживающие переправу, им доставалось больше огня и осколков, чем тем, кто работал на берегу. Да и нельзя было уберечься от этих осколков посреди реки в тонкобортных понтонах.
Когда Крымов нетерпеливо звал водителя, один понтонер сказал второму:
— Легкари!
Этим словом они, видимо, обозначали не только едущих на легковых машинах, но и тех, что хотели легко отделаться от войны и долго жить на свете.
Второй спокойно, без осуждения, подтвердил:
— Легкарик, торопится жить.
Крымов слышал этот разговор и понял его. Когда машина въехала на мост, он не стал вскакивать на ходу, а загородил дорогу, поднял руку — машину занесло, она стала боком.
И вдруг над Доном послышался злой бабий голос. На беженской подводе стояла молодая плечистая крестьянка и, размахивая кулаком, гневно кричала:
— Эх, вы… это же журавли летят!
И засевшие в щелях люди увидели, как на переправу высоко в синем небе плавно, клином, летели птицы: одна из них медленно замахала крыльями, за ней вторая, третья, затем снова они перешли на парящий полет.
— Не в свое время журавли перебазируются или война их потревожила?..— сказал Крымову комендант переправы, с детским любопытством глядя на небо.
Крымов, идя рядом с машиной, пробирался среди подвод и грузовиков, а на дороге, в степи, в камышах, смеялись смущенные люди. Они смеялись друг над другом, над женщиной, ругавшей их с подводы, над потревоженными войной журавлями.
Когда Крымов сел в машину и отъехал на километр-полтора от реки, Семёнов тронул его за рукав и показал пальцем вверх: в воздухе появилось несколько черных точек, но то не были журавли, на переправу шла эскадрилья пикирующих бомбардировщиков.
45
Уже вечерело. В это лето степные закаты были особенно торжественны и пышны. Пыль, поднятая миллионами ног, колес, гусениц, пыль, поднятая бомбовыми разрывами, стояла над степью, тонкою взвесью поднялась в высокие, кристально ясные слои воздуха, где уже дышал холод мирового простора.
Вечерние лучи света, дробясь об эту тончайшую пыль, доходили до земли множеством красок. Степь огромна. И как небо и море окрашиваются в часы заката, так жесткая, сухая степная земля, днем сизая и желто-серая, вечером, подобно небу и морю, способна менять цвета.
Таково удивительное свойство степной земли, сближающее ее с морем. Вечером степь то розовеет, то становится синей, то фиолетово-черной.
Чудные запахи идут от нее; пахучие эфирные масла, включенные в соки трав, цветов и кустарников, выкипяченные летним солнцем, приникают облаком к остывающей вечером земле, не смешиваясь, медленными струями ползут в воздухе.
И над теплой землей то запахнет полынью, то едва начавшим просыхать сеном, то в котловине вдруг ударит тяжелым запахом меда. А дальше в степи из глубокой балки пахнет сыростью молодого многотравья, то сухой, пыльной, прокаленной солнцем соломой, то вдруг запахнет уже не травой, не дымом, не полынью, не арбузом, не горьким листом дикой степной вишни, а самой плотью земли: таинственное дыхание, включающее в себя и легкость земного праха, и тяжесть неподвижных, окаменевших во тьме пластов, и режущий холод глубоких подземных ключей и рек.
Вечерами степь не только окрашивается, не только пахнет, она и поет. Звуки степи не доходят каждый в отдельности до слуха человека, их и не нужно слушать порознь. Они, едва коснувшись уха, доходят до самого сердца, наполняют его не только покоем и миром, но и печалью и тревогой.
Усталый, нерешительный скрип кузнечиков, точно спрашивающих, стоит ли шуметь в сумерках, перекличка серых степных куропаток перед приходом тьмы, дальний скрип колеса, примиренный шепот отходящей ко сну травы, колеблемой прохладным ветром, возня сусликов и мышей, скрип жесткокрылых жуков… И рядом с этими примиренными звуками отходящей на покой жизни — другие: полный разбойничьего волнения крик совушек, угрюмое гудение ночных бражников, шорох желтопузых полозов, шорох охоты и охотников, выходящих из нор, дыр, балок, трещин в сухой земле. А над степью встает вечернее небо, земля ли отражается в нем, или небо отражается в земле, либо и земля и небо, как два огромных зеркала, обогащают друг друга чудом борьбы света и тьмы.
В небе, сами собой, в страшной высоте, в равнодушной астрономической тишине, без грохота и взрывов, без дыма, вспыхивают один за другим пожары. Вот занялся край спокойного, высокого, пепельно-серого облака, а через минуту оно все пылает, как многоэтажный, блещущий стеклами, кирпично-красный дом, а вслед за ним огонь охватывает все новые облака. Огромные и малые, кучевые и плоские, как серые плиты сланца, они вспыхивают, наваливаются друг на друга, рушатся.