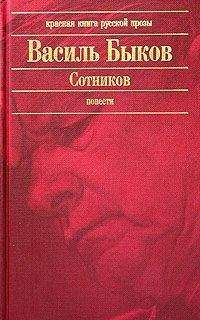Елена переключила телевизор на другую программу. Замелькали кадры о пограничниках. Заснеженный остров на Амуре. Солдаты в белых полушубках настороженно вглядываются в даль…
Елена вспомнила, что с Шорниковым недавно вели разговор о каком-то новом назначении.
— Коля, неужели вы правда уедете?
— Пока ничего не ясно. Как я понял, это был предварительный разговор.
— Не утешайте меня. — Она пододвинулась к нему ближе, рассматривая его лицо, провела ладонью по вискам. — Мне бы не хотелось расставаться.
Но что он может сделать? Военный есть военный. Да и вообще трудно сказать, что с ним завтра будет. А пока они вместе.
Со слезами на глазах она целовала его и шептала малосвязные слова. Пусть даже они оба и пожалеют потом, но сейчас имеют же они тоже право хоть на какое-то счастье!
А на экране телевизора солдаты-пограничники в белых полушубках. Комментатор говорит что-то тревожное. Елена повернула маховичок — белое яблочко погасло.
Утром Шорников открыл глаза, и сначала ему показалось, что он находится в салоне какого-то огромного корабля, — тихо и очень солнечно. В квартире уже все было убрано, на кухне кипел чайник, а Елена стояла возле умывальника и чистила зубы. Он видел в зеркале ее отражение: пышные, упавшие на плечи локоны, большие озорные глаза.
Он вскочил с постели по-солдатски, начал одеваться.
— Можно не торопиться, — сказала Елена, — у нас в запасе еще много времени.
«О, если бы это было так!»
Елена стала какой-то преображенной, даже в походке что-то изменилось — ступала спокойнее, а в глазах одна нежность. И взглядом, и каждым своим движением она говорила: я твоя, счастлива и благодарна тебе. И останусь благодарной, если даже этим все между нами кончится.
Потянулась к нему на цыпочках, чтобы поцеловать.
Голова у него закружилась, сердце защемило, не хотелось выпускать ее из объятий, будто эти минуты уже не повторятся. Наверное, не видать ему счастья без этой женщины.
Когда вечерами включают телевизор, маленькая шустрая обезьянка по кличке Чи-Ки утихает, становится смирной, садится на спинку кресла и, уставившись глазами в экран, смотрит в одну точку. И так до конца передач.
Обычно рядом с ней сидит отяжелевший человек с серым угловатым лицом в мохнатыми выцветшими бровями. Через год ему будет шестьдесят, но он уже давно как лунь, какой-то очень древний, похожий на мудрых дедов из сказок — обитателей земли русской.
Ему бы уйти на покой, но он все работает, и часто ему завидуют молодые коллеги.
Все уже решено, он уйдет на пенсию и будет работать дома и в меру своих сил, не больше. Не придется торопиться. Иначе он так и не закончит свою книгу о поездке по Востоку.
Жена вернулась. Он не упрекал ее ни в чем, но и не выражал по этому поводу восторга. На кухне шипит сковородка.
Чи-Ки смотрит на экран. Только на экран, в одну точку. Если бы так смотрел человек, стало бы страшно. Но Чи-Ки всего-навсего умная обезьянка, и стоит только выключить телевизор, как она по-прежнему будет шустра и весела.
За длинным — во весь вал — столом генеральского кабинета все места как-то само собой были распределены. Старшие начальники усаживались поближе, остальные устраивались в конце, где малозаметнее. Прахов же всякий раз усаживался на место полковника Дремова, если оно пустовало. Почти демонстративно сел и на этот раз.
Генерал еще не пришел, находился в соседнем кабинете. Офицеры переговаривались вполголоса, шутили. Видимо, капитану Сорокину зачем-то понадобился Прахов, и он окликнул его с того конца стола, где люди сидели кучкой:
— Подполковник Прахов!
— Да!
— Вон вы где, оказывается! Знаете, куда метите.
— Знаю! — подмигнул Прахов.
— Или забыли, где ваше законное место?
— Ничего, история еще всех нас рассадит по своим местам!
— Если там вообще найдутся места для нас! — засмеялся Сорокин.
Прахов приложил руку к груди и многозначительно поклонился.
Дверь, что была напротив «центрального» конца стола, открылась, и вошел генерал Корольков. В руках у него были две пары погон.
Генерал Корольков пригласил Сорокина к столу, объявил приказ, вручил погоны, обнял и расцеловал. И, к удивлению всех, сказал:
— Верю, что из вас получится хороший комбат!
Кто-то даже спросил, почему его назвали комбатом, но генерал ничего не ответил, может не расслышал, и вручил вторые погоны Шорникову. Прахов морщился, будто всыпал в стакан какую-то отраву и по ошибке выпил ее сам.
Провожают в запас всегда обласканного. И о подполковнике Прахове говорили только приятное. И приказ был, и подарки, и памятный адрес.
Настроение у всех было хорошее, почти праздничное. В голосе своих сослуживцев Прахов не уловил никакой нотки неприязни к нему. Правда, когда он стал приглашать их в ресторан, они отказались, но и то, видимо, из самых добрых побуждений — деньги запаснику еще пригодятся.
И вдруг ему показалось, что ничего страшного не произошло, как жил он, так и будет жить, и все кругом останется по-прежнему.
Прахову надо было очистить ящики своего стола. Среди личных писем и тетрадей он увидел сувенир, о котором давно забыл. Еще много лет назад он отдыхал в Сухуми и купил там у крепости Диоскурия змею. Деревянная и пестро раскрашенная, она извивалась в руках, как живая. Он до смерти напугал тогда дома жену, и она выбросила ее в мусорное ведро, но Прахов подобрал гадюку и привез ее на службу, сунул в ящик стола — там она и пролежала до последнего дня.
Он сломал ее пополам и бросил в угол, в урну со всяким мусором.
Шорникову было жаль его, и в то же время чувствовалось какое-то облегчение. Видимо, это же самое испытывали и другие, потому что, встретившись в коридоре, Сорокин артистически улыбнулся:
— Мир праху твоему, Леонид Маркович!
Посмотришь на небо — не подумаешь, что на земле стоят холода: небо голубое, прозрачное, насквозь просвеченное солнцем. И только на горизонте — перышки облаков золотятся.
Но какие морозы! Около сорока градусов по ночам. Снегу в Москве почти нет, прикрыл немного землю, смешался с пылью и гарью, посерел и стал походить на пепел.
Шорников смотрел в окно своего кабинета. И вдруг выше крыш что-то вспыхнуло, засверкало, будто стеклышко, поставленное под углом к солнцу. Погасло, потом все облачко заиграло многими цветами и стало напоминать плавник рыбы. И вот оно обернулось полудугой. Радуга!
Много странного теперь встречается и природе — то летом снег выпадет, то зимой почки на деревьях станут распускаться.
Радуга и голубизна южного неба! Снежку бы немного, чтобы можно было встать на лыжи и пойти по тихим просекам среди сосен. Бродить и бродить, потом остановиться где-нибудь на поляне, вздохнуть всей грудью и улыбнуться всему свету — небу и солнцу, завтрашнему дню.
О этот завтрашний день! Все теперь думают о нем.
Пылает радуга в январе. А если грянет гром?
По утрам люди выстраиваются у газетных киосков, спрашивают друг друга о последних известиях. По Москве проходят митинги протеста: на восточной границе вновь произошли столкновения, есть убитые и раненые.
Елена считала, что Шорников только из-за нее не едет за дочкой. Но он и теперь почему-то не собирался. Может, боится, что привезет Оленьку и тут ему вручат предписание — срочно выехать.
— Возьмите и меня в деревню. Очень хочется посмотреть.
— Поехали!
В штабе она рассчиталась, оформлялась в Музей Советской Армии. У нее тоже в запасе была свободная неделя.
Они выехали из Москвы скорым, в областном центре сделали пересадку — дальше можно было добираться только «рабочим» поездом. Голые полки, две бледные лампочки на весь вагон, иней по углам. И пар в тамбуре, потому что люди все время заходили и выходили, двери почти не закрывались.
Скрипят тормоза, подрагивает вагончик, непривычно после московских скоростей. Каких-нибудь пятьдесят километров придется ехать всю ночь.
К своей станции они подъезжали уже утром, когда совсем стало светло. Кроме них, никто здесь не сошел, никто и не садился. Перрон был занесен снегом, одиноко чернело низкое станционное здание, похожее на времянку, с хрустом шумели высокие молодые тополя — стволы их были у комлей черными, поросли мхом. Рядом лежала куча кирпичей, видимо для нового вокзала.
В скверике, в обрамлении тополей, одиноко стоял бюст маршала. Из серого гранита. Обледенелый, занесенный снегом. Но что ему сделается, старому солдату! Наступит весна, и опять все кругом зазеленеет, защебечут птицы. Соловьев в этих местах было множество — вечно будет слушать их пересвист.
Елена и Шорников постояли немного и, обогнув полуразваленный сарай, в котором обычно хранят свой инвентарь путейцы, направились к площади — не приехал ли кто-нибудь на лошади из родных мест? Никого не оказалось.