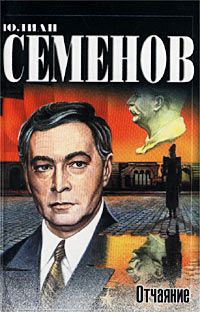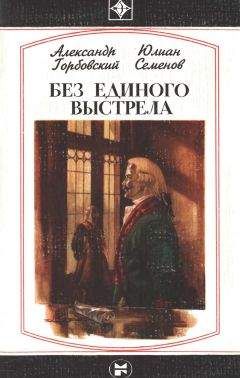— Не было никакого заговора, — сухо ответил Вознесенский. — Не было никакой фальсификации на выборах: либо это работа ваших провокаторов (работали провокаторы Комурова, министр об этом не знал), либо желание следовать политике «показухи», которой поражена вся страна, как раковой опухолью. Смотри, министр, это дело может оказаться твоим последним — тебя после него уберут, как убрали Ягоду и Ежова… Подумай… У тебя в руках сила…
Министр, сделавшись серым от ужаса и ярости, грохнул кулаками по столу:
— Скотина паршивая! Ты меня агитировать вздумал, контра! Я тебе поагитирую…
Через час Вознесенского вывели из тюрьмы — в легком костюме, шелковой сорочке, разрешив повязать галстук, — и посадили в «ЗИС». Рядом с ним сидели охранники в тулупах: мороз был восемнадцать градусов, деревья покрыты голубоватым инеем, небо бездонное, голубое.
Вознесенского привезли на Красную Пресню, на ту ветку, что шла к пересылке, и пересадили на открытую дрезину; по бокам устроились охранники; у одного на коленях лежал тулуп и меховая шапка; второй держал валенки, в которые были всунуты две бутылки водки, обернутые чистыми бланками допроса.
Полковник, ожидавший Вознесенского возле дрезины, сказал:
— Покатайтесь, поглядите, как хорошеет столица… Когда почувствуете, что превращаетесь в ледышку, подпишите бланк допроса. Вас немедленно напоят водкой, оденут в тулуп и валенки, отвезут в госпиталь. Не подпишете — ваше дело…
Кузнецову, бывшему секретарю ЦК, избитому, окровавленному, высохшему, устроили встречу с женой в кабинете Маленкова.
Есть ситуации, которые неподвластны слову, их нельзя описать — это удел скульптуры или музыки: выразить неописуемый ужас происходившего.
Когда встреча кончилась, Маленков сказал:
— От вас зависит все: признаетесь — спасу! Нет — не взыщите. Условия не мои, а товарища Сталина.
Когда министр МГБ СССР Абакумов был арестован по обвинению в потворстве «великорусской оппозиции» во главе со злейшим врагом народа Вознесенским и его подручным Кузнецовым, следователи выбивали из Абакумова показания про то, когда впервые секретарь ЦК Кузнецов потребовал у него дела, связанные с расследованием обстоятельств убийства Кирова, и отчего готовил свой план повторного изучения «загадочной» — как он говорил — «трагедии».
Второе обвинение заключалось в том, что Абакумов, получив устные показания от «агента еврейской шпионской группы „Джойнт“ доктора Гелиовича» о главном враче Боткинской больницы профессоре Шимелиовиче и консультанте Лечебно-санитарного управления Кремля профессоре Этингере, расстрелял их, чтобы оборвать нити следствия, которые должны были привести к выяснению истинных обстоятельств гибели товарищей Щербакова и Жданова, умерщвленных еврейскими националистами, которые не могли простить великому сыну советского народа товарищу Жданову героической борьбы против еврейских космополитов.
Абакумов, подвергнутый пыткам, держался стойко, кричал в ярости:
— Про Кузнецова не знаю! А «Джойнт» — по-английски «объединенный»! У них даже в компартии написано «джойнт сентрал комити»! Я ж Валленберга по стене из-за этого размазывал, он мне все объяснил! Я и велел «джойнт» убрать, чтоб не засмеяли! Наши-то всему поверят, а американцы от хохота перемрут! Я жидовню проклятую больше вас ненавижу, но ведь их по-умному надо уничтожать, а не топором! Гитлера забыли, да?! Урок не пошел впрок?!
Сразу после окончания Девятнадцатого съезда партия перестала называть себя большевистской, интернациональной, а стала государственной. Молотов и Микоян не были введены в Бюро Президиума ЦК. Новый министр госбезопасности Игнатьев начал готовить дело на Ворошилова — «английского шпиона». Сталин, как всегда, ничего не называл своими именами; в беседе с Игнатьевым вспоминал Троцкого и Склянского, с юмором рассказывал о стычках с Серебряковым — они вместе защищали Москву в девятнадцатом году, два представителя ЦК: один, Серебряков, был тогда секретарем ЦК, второй — наркомнацем, но оба являлись членами Военного совета фронта, — дивился тому, как Троцкий («надо отдать ему должное, армию держал в руках, хоть и драконовскими репрессиями») оказался завербованным гитлеровцами. «Парадокс истории»; впрочем, история нескончаема; «наш Клим, например, и сейчас взахлеб говорит о том, как блистательно работают англичане в Израиле, как умело закрепляются в Бирме, сколь сильны их позиции в Канаде и Кении… Прямо как член их парламента говорит, а не как русский».
Зная от сталинской охраны, что Сталин неоднократно называл Ворошилова «английским агентом», давно не принимал его, Игнатьев понял, что угодно Вождю; начал работу.
Проанализировав все эти факты, особо сосредоточившись на том, что на съезде было только шесть процентов делегатов от колхозного крестьянства (в основном руководители совхозов и колхозов) и восемь процентов от рабочего класса (Герои труда, обкатанные на предыдущих совещаниях сталевары, ткачихи, имена которых были на слуху у народа), Берия понял, что Сталин совершенно потерял основополагающие ориентиры: если восемьдесят шесть процентов делегатов представляли новый класс — партийно-государственную бюрократию, то как можно в дальнейшем говорить о «партии рабочего класса и трудового крестьянства»?! Фикция! Русские хоть и терпеливы, но глухой протест теперь фиксировался органами не только в деревнях, но и повсеместно (в Донецке на монумент — на голову Вождя — надели ведро с мазутом; в Москве, Киеве и Ленинграде в парадных и на стенах домов — во дворах, к счастью, — расклеивались листовки, призывавшие к борьбе за ленинизм, против «кровавого тирана», предающего идеи демократического социализма); несколько раз в Салехардские концлагеря, в Тайшетлаг, Джезказган, Молотовский каторжный комплекс, в Комилаг приходилось десантировать дивизии: восстания зэков приобретали все более организованный характер, чувствовалась рука арестованного генералитета и высшего офицерства.
Когда Абакумов (за три дня перед арестом) доложил, что производительность труда в концлагерях резко падает, заключенные по-прежнему мрут от голода, Сталин, опросив мнение членов Политбюро и не получив удовлетворившего его ответа, обратился к Абакумову:
— Ваше предложение?
Тот ответил:
— Товарищ Сталин, если мы уберем десять процентов заключенных, тогда норма питания автоматически увеличится, работа пойдет успешнее.
— Что значит «уберем»? — Сталин остановился посреди кабинета, упершись взглядом в лицо Молотова. — Отправите по домам, что ли?
— Нет, — ответил Абакумов, — я должен получить санкцию на ликвидацию больных и наиболее истощенных.
— Не ликвидацию, — по-прежнему не отрывая взгляда от Молотова, жена которого сидела в концлагере как «еврейская националистка», — а расстрел. Нет смысла танцевать на паркете, здесь не бал, а Политбюро… Приучитесь называть вещи своими именами, пора бы… И не больных надо расстреливать, а наиболее злостных врагов народа, диверсантов и шпионов… Больные и сами помрут… Десять процентов многовато, а пять процентов достаточно. Как, товарищ Молотов? Согласны?
— Д-да, т-товарищ Сталин, с-согласен, — ответил тот, заикаясь больше обычного.
Берия понимал, что после предстоящего ареста Молотова и Ворошилова из тех вполне могут выбить показания и на него с Маленковым.
Поэтому через неделю после ареста Абакумова он отправился к Суслову. Затем, посоветовавшись с Хрущевым, которого Старец перевел в Москву первым секретарем горкома, — чего мужика бояться, не конкурент, образование не позволяет, но в раскладе сил необходим, врубит, если надо, от всего сердца — Берия поехал к Маленкову.
— Егор, я поглядел абакумовские дела с врачами, которых он прикрывал, и пришел в ужас: а если еврейские демоны решат мстить нам и обратят свой удар против товарища Сталина? Ты представляешь себе, что постигнет нас, родину, мир, наконец?!
Маленков поднялся из-за стола:
— Неужели они могут пойти на такое?!
— Ты считаешь невозможным? Тогда я снимаю вопрос. Просто я не мог с тобой не поделиться… Все-таки Иосифу Виссарионовичу за семьдесят, мы должны беречь его, как отца…
— Нет, нет, хорошо, что ты поднял этот вопрос… Что надо предпринять?
Берия, готовясь к этому разговору, заново просмотрел все материалы, связанные с болезнью Ленина, когда Политбюро поручило генеральному секретарю Сталину личную ответственность за лечение Ильича.
Наученный читать не только строки, но и типичные византийские междустрочья, Берия многое понял, лишний раз испугавшись вседозволенного коварства Старца.
— Предпринять можно одно: провести на Политбюро решение о твоем назначении на пост ответственного за состояние здоровья товарища Сталина.