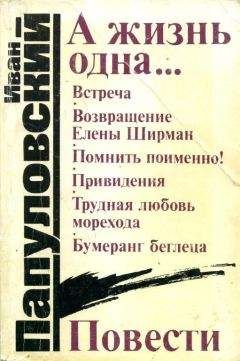Много времени, как всегда, заняло приготовление свежих растворов, да и бачок у меня допотопный, с неудобной спиралью, в которую в полной темноте я трудно и неловко заправляю пленку.
— Смотри не испорти! — весомо, солидно предупреждает за дверью ванной Саша.
Потом мы занавешиваем окно на кухне и вставляем пленку в увеличитель. На фоне безбрежного водоема — настоящее море! — возникает светлая «Волга» и возле нее двое парней и девушка со спиннингом в руках.
— Печатай! — почему-то шепчет Заречный, словно мы от кого-то таимся, делая что-то недозволенное. — Крупно, двадцать четыре на восемнадцать. И следующие два кадра тоже.
Он хорошо помнит, что и в какой последовательности снимал. При свете красного фонаря лицо его становится загадочным, он весь светел и красив своей неуемностью, даже каким-то взрослым озорством. Невольно вспоминаю весь его жизненный путь: в семнадцать лет добровольцем ушел на фронт, в восемнадцать мать получает похоронную из-под Синявина, в двадцать он командир танкового взвода, после демобилизации в сорок седьмом — комсомольский работник, вскоре — секретарь парткома большого завода, заочно окончил политехнический институт, выдвинут в главные инженеры своего же завода. С директорского поста, после напряженных и счастливых шестнадцати лет, его пригласили в Москву. Если б знали директора некоторых таллинских заводов, какой «ба-аль-шой» начальник из их министерства сидит у меня на кухне и с нетерпением вглядывается в появляющиеся на доске под фотоувеличителем слабые изображения волн Нарвского водохранилища!..
Ага, вот лицо молодого парня крупным планом. Заречный вторым пинцетом сам вынимает снимок из ванночки с водой, сует в закрепитель и неотрывно смотрит на изображение. Наконец толкает меня в плечо:
— Узнаешь? Только вот усиков не было…
Что-то далекое, смутно знакомое чудится и мне в лице довольно красивого блондина с небрежно зачесанными назад волосами, с еле заметными светлыми бровями и горбинкой ниже переносицы.
— Ну, ну?! Неужели не узнаешь?
Саша никак не может понять, почему я немедленно, с первого взгляда не узнаю Роби Тислера. Ведь сын его сейчас в том возрасте, каким мы знали Роби. И похож на отца стопроцентно!..
— Саша, тебе повезло, — объясняю я. — Ты увидел вначале имя и фамилию на обелиске, потом в школе — фотографию Роби, именно в таком же возрасте. Газетную вырезку сохранил. Встретив живого сына Роби вскоре после знакомства с портретами в школе, ты его узнал сразу. А я ведь ничего этого не видел…
— Да, ты прав… — виновато признает он. Виновато и с сожалением. Ему хотелось бы, чтоб я тоже удивлялся и радовался изображению сына нашего автоматчика-десантника Роберта Тислера, которого так хорошо помним — вместе в последний бой под Синявином ходили, из окружения прорывались! Мое спокойствие обижало его.
— Мы с тобой не знали и сотой доли того, что случилось с Роби, — негромко, со вздохом говорит Заречный. — Ведь он действительно был расстрелян еще в сорок первом, но пьяные полицаи промахнулись и к тому же плохо зарыли могилу…
Это уже похоже на что-то знакомое. Случаев бегства расстрелянных из общих могил за войну накопилось множество. Я первым вспоминаю пярнуского милиционера Юлиуса Сельямаа — тоже из сорок первого года. С отрядом бойцов истребительного батальона он попал в лапы фашистов на перекрестке дорог Пярну — Рига и Пярну — Синди. На том месте сейчас тоже установлен памятник. А Юлиус жив и сегодня!
Мы провели с Сашей памятный и трудный день. Рассказывая то, что он узнал о судьбе Роби и его жены — медсестры из-под Синявина, он волновался, иногда горячился, а то вдруг переходил на шепот, словно боялся, что нас кто-то подслушает.
Конечно, сказать уверенно, что Расма Барда — одна из тех трех медсестер, которых встретила группа минометчика Митькина при выходе из окружения между Мгой и Синявином, сегодня никто не может, но обстоятельства столь сходны, что и отрицать этого тоже нельзя.
Фашисты из эсэсовской части обнаружили болотный лазарет с неходячими ранеными часа через два после отхода наших. Три полузалитые водой большие землянки и одна маленькая, стоявшая на отшибе, «охранялись» молодыми, посеревшими от бессонницы и усталости девушками в испачканном болотной грязью обмундировании, но с белоснежными нарукавными повязками с яркими красными крестами. Оказывается, специально постирали, чтоб всем знакомая эмблема милосердия бросилась в глаза.
Расма увидела немецких солдат первой — у входа в свою землянку. Трое эсэсовцев бросали гранаты в соседние блиндажи и землянки, гоготали, как молодые жеребцы на выгуле. После взрыва ждали, когда улягутся пыль и копоть, — тогда совали свои арийские носы в развороченные двери.
«Перебьют ведь всех!» — похолодела от жуткой мысли девушка. Что же делать? Погибнуть вместе со всеми или попытаться спасти обреченных и спастись самой? Она вошла в землянку и оперлась на косяк незакрывавшейся двери. Слабый свет из двух маленьких окошек под самым потолком едва освещал ее, а лежавшие на еловых нарах раненые ей самой казались безликой черной массой.
— Братья! — сказала она. — Немцы бросают во все землянки гранаты. Я остановлю их, я знаю их собачий язык. Вы все — мобилизованные, вы ранены, не можете двигаться, вы — под охраной Красного Креста. Вы согласны со мной?
Холодное молчание раненых было ей ответом. Потом в черной массе наметилось слабое движение, кто-то хрипло сказал:
— Все равно убьют, сестра… Не унижайся.
Вновь последовавшее молчание показалось ей вечностью. А наверху все ближе гремели взрывы.
— Поправимся — сбежим… — неуверенно произнес молодой голос. — Может — пусть попробует сестричка? А, братцы?
Опять движение на нарах.
— Как скажете… — тихо произнесла сестра, и все вспомнили ее такой, какой видели в бою, — смелой, сильной, красивой. Знали, что была она из семьи латышского красного стрелка.
— Умереть успеем, а попытаться можно. — Теперь говорил пожилой снайпер Левачев — Расма узнала его голос. Узнали и все товарищи. Опытный и беспощадный снайпер Левачев! Если фашисты узнают, сколько он за год пребывания на фронте отправил на тот свет их солдат и офицеров…
— Попробуй, сестричка.
И Расма вышла из землянки наверх…
Что было дальше, сын Расмы и Роби Тислера не смог вразумительно и связно рассказать Заречному. Знал, что мать с подругами прошла через все круги фашистского ада. Что гитлеровцы затеяли в захваченных землянках с ранеными «сортировку», перебив более половины неподвижных, беспомощных советских солдат, и никакой «красный крест» им не помог. И правильно поступили бойцы из последней, самой маленькой землянки, подорвав себя вместе с вошедшими к ним фашистами…
Заречный не скрывал своего восторга мужеством и цельностью боевого характера Расмы, он был уверен, что она — и з т е х т р о и х.
Он не выпускал из рук только что отглянцованных снимков, откровенно любовался сыном Расмы и Роби.
Мы перешли в кабинет, на маленьком столике дымился ароматный кофе.
— Коньячку? — спросил я, направляясь к бару.
— Знаешь… не хочу. Да ты не хлопочи! — прикрикнул он. — На свежую голову легче беседовать.
Он вновь принялся вспоминать подробности своей вчерашней встречи на берегу Нарвского водохранилища. Как представился ему вместо разлившегося просторно искусственного моря стоявший тут когда-то смешанный лиственно-хвойный лес, а за ним — переправа в Усть-Жердянке, вытянутый по болотам, лесам и кустарникам к северо-западу наш Аувереский плацдарм. И круглосуточные вздохи орудий разных калибров, вспыхивавший то здесь то там треск пулеметов и автоматов, частые шлепки вражеских мин.
— Почти всю войну мы просидели с тобою в болотах — на Волхове, у Ладоги, за Наровой, даже на Карельском перешейке, — раздумчиво говорил Саша, или Александр Алексеевич, — большой министерский начальник все-таки. — Сколько наших друзей пало в этих болотах, сколько деревьев, кустарников мы погубили, вытаскивая из трясин застрявшие танки, как только не ругали эти болота. Только после войны я узнал, что очень нужны они в природе, нельзя бездумно их повсеместно осушать — нарушается экологическое равновесие… Вот и на плацдарме за Наровой крестили эти болота почем зря, а они, может, помогали нам справиться с напиравшими фашистами.
— Ты хочешь гимн болоту сказать? — подзадорил я друга. И положил перед ним пятый номер «Таллина» за восемьдесят третий год. — В фильме эстонского кинорежиссера Рейна Марана говорится вот это…
Саша прочел вслух:
По-хозяйски ступаешь —
под тобой прогибаются кочки,
тяжелы твои руки,
подожди, не спеши, —
с дубиной мощной и прочной,
ты в лесу не один,
ты других не губи,
ты подумай о них!
Всех нас матерь-земля родила,
если мы дороги ей
словно равные дети.
И на этой земле
для тебя и меня
хватит вечного солнца и света.
— Верно сказано. Верно. Только гимн болоту я вычитал у Межирова, кажется, точно не помню…