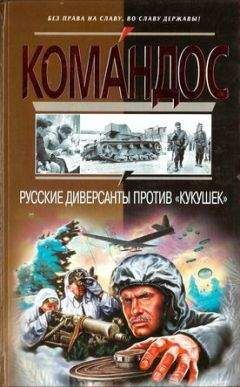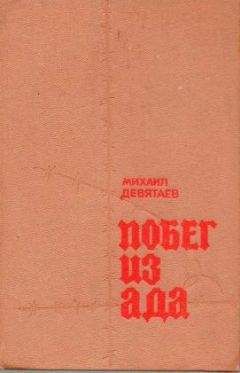Мы внимательно следим за тем, как одна за другой исчезают одиночные фигуры бездомников, и отвлекаемся от наблюдения только тогда, когда на болоте не остается ни одной неприкаянной тени. Вскоре шум над болотом стихает, и успокоенные наступившей тишиной постовые возвращаются к насиженным местам у неутухающих костров.
— Вот те и помощь! А то — «помо-о-очь нечем», — передразнивает меня шахтер. — Захочешь, так все сделаешь.
Утром, чуть свет, мы снова в пути. На этот раз мы идем с шахтером в голове колонны, где идти не в пример легче, чем, давясь поднятой пылью и неизменно отставая, трусить вдогонку за передними в хвосте, изнемогая от непосильной клади и усталости, подстегиваемые беспрестанной тревогой очутиться последними и стать очередной жертвой распоясавшегося конвоя. Привилегией идти сегодня в числе первых я всецело обязан инициативе дяди Васи. Не успевает стихнуть команда к походному построению, как он одним рывком поднимает меня с нашего изрядно осевшего лежбища и самым бесцеремонным образом тащит меня в голову колонны.
— Иди-кось, иди! — не давая мне опомниться, подгоняет он меня, подбадривая по пути весьма чувствительными тычками. — Объясняться опосле будем — знаю, что делаю!
Только достигнув намеченной цели и заняв в строю желаемые места, он, облегченно вздохнув, успокаивается и как бы вскользь роняет:
— Хватит в хвостах-то околачиваться! Не все нам в последних ходить, нехай и другие испробуют.
Сознание, что на этот раз мы не поплетемся в изнуряющем хвосте, а пойдем едва ли не первыми, придает нам сил и заметно поднимает наше самочувствие. С этим бодрым и приподнятым настроением мы и трогаемся в дальнейший путь.
— Ну, как спалось? — уже на ходу допытывается шахтер.
— Неплохо, знаешь, — усмехаюсь я.
— А-а-а! Я что говорил? Говорил, что вдвоем нам сам черт не брат и ничего не страшно будет? А?
— Говорил! — подтверждаю я.
— То-то вот! Духом только не падай — все переживем!
Я не забыл ночной беседы. Она все расставила по своим местам, и сейчас меня не страшит дорога и не пугают никакие трудности.
— Есть от чего приходить в отчаяние, но мы не этакое видели и не такое пережили, а все еще дышим. Живы будем — не помрем и теперь! — бесповоротно решаю я.
Перед нами все тот же нескончаемый и гиблый путь… Колышется над колонной облако поднятой ногами дорожной пыли. Безостановочной трусцой гонятся за передними отстающие. И так же глумятся и расправляются над ними конвоиры. Но, припоминая все высказанное шахтером, я уже не чувствую отчаяния, не ощущаю вечно сосущего голода и слабости в ногах, и даже непосильная кладь кажется мне на этот раз едва ли не вдвое легче.
— А мне и в самом деле нельзя погибать! — размышляю я про себя. — После всего пережитого было бы просто нелепым и непростительным погибнуть в самом конце войны. Нет, надо во что бы то ни стало выжить, хотя бы для того, чтобы сохранить и донести до народа и потомков этот страшный груз тяжких и кошмарных воспоминаний обо всем виденном и пережитом, поведать всему миру о поучительной судьбе нашей растаявшей и бесследно исчезнувшей девятки, об основательно поредевшей, некогда снятой с тонущего «Гинденбурга» и неоднократно восполняемой тысяче, о нашем, наконец, по существу истребленном поколении, — одним словом, обо всем том, что смог и сумел сохранить и запечатлеть в своей неугасимой памяти.
Я уже куда более спокойно воспринимаю и неожиданные перемены, и далекий, кажущийся таким поистине бесконечным путь, столь щедро устилаемый нашими телами. И что бы еще не ожидало и не предстояло нам пережить на этом пути, я неожиданно осознаю себя готовым ко всему и способным противостоять любым, казалось бы, самым непредвиденным обстоятельствам и пережить самые непреодолимые трудности.
А впереди у нас — далекая и загадочная Норвегия. Что-то нас ждет на пути к ней? Что нам еще преподнесет судьба?
ТРИНАДЦАТЬ МЕТРОВ
День для нас начался обычным построением, получасовой выстойкой на морозном, продутом всеми ветрами плацу в ожидании конвоя и полуторачасовым переходом к назначенному участку. Новым по прибытии на место оказался лишь строжайший запрет удаляться от прокладываемой трассы далее чем на тринадцать метров.
— Капут! — грозились конвоиры, многозначительно потрясая оружием.
До сих пор никому из нас даже в голову не приходило учитывать расстояние, на которое нам порой доводилось удаляться от своего рабочего места за тем или иным инструментом или материалом, а тем более измерять его, если не метрами, то хотя бы шагами, и вполне понятно, что новая затея немцев отнюдь не вызвала у нас особого восторга и одобрения.
— Выдумывают черт те что!..
— Все побеги мерещатся. Неспроста понагнали караульных-то. Почитай, на каждого пленного по конвоиру.
— Да уж куда тут бежать-то с нашими силами? Ноги-то вот что плети стали.
— Отмеривать нам теперь эти тринадцать-то метров, что ли, если понадобится за чем идти?
— Вот, вот! Гадай теперь, где они, эти тринадцать-то метров кончаются!
Приняв подобное нововведение за очередную арийскую блажь, мало что меняющую в нашей повседневной обстановке, и потому, не придав ей особого значения, мы не могли себе тогда даже представить, что спустя некоторое время она весьма решительно даст о себе знать и приведет к отнюдь не маловажным событиям, обернувшись для одного из нас подлинной трагедией.
Не успев освоиться на новом для нас участке и войти в обычный ритм каторжного дня, мы тут же услышали хорошо всем знакомый, отрывистый собачий рык Черного унтера, на счету которого был не один десяток загубленных им военнопленных. Грозное рычание его относилось к известному всему лагерю, совсем еще юному Маэстро, прозванному так вначале самими немцами, а вслед затем и нами за бесподобное изготовление всякого рода резных деревянных поделок и игрушек, пользующихся небывалым спросом у конвоя. Подозвав его, Черный потребовал принести ему к костру виднеющуюся невдалеке железную лопату, намереваясь по обыкновению поджаривать на ней хлеб. Выполняя приказание, ничего не подозревающий Маэстро направился было за требуемой лопатой, но, не дойдя до нее, внезапно услышал за спиной угрожающий и ничего хорошего не сулящий дикий рев беснующегося конвоира.
— Хальт! — неистово орал тот, угрожающе вскидывая автомат. — Цурюк, доннер веттер! [69]
Тут-то мы и вспомнили о тринадцати запретных метрах. Не вспомнил о них лишь Маэстро. Недоумевая, он оглянулся на неистовый крик Черного, продолжая, однако, свой дальнейший путь к лопате. И тут случилось то, что буквально ошеломило и потрясло нас. На глазах у всех Черный решительно и хладнокровно нажал гашетку и пустил длинную очередь по приближающемуся к лопате Маэстро. В начале нам подумалось, что автоматная очередь была пущена просто для острастки, но, когда Маэстро, весь перекосившись, схватился руками за грудь, а затем всем туловищем несуразно ткнулся в глубокий снег, обагряя его дымящейся на стуже алой кровью, нам стало ясно, что в действительности произошло.
— Убил ведь зверюга парня! Право, убил…
— Вот те и тринадцать метров! Они для того их придумали, чтоб проще было с нашим братом разделываться.
— Фашист, он фашист и есть! Родную мать и ту не пожалеет, не то что какого-то там игрушечника, да еще из пленных! — негодовали мы, прислушиваясь к разглагольствованию Черного, с жаром убеждающего сбежавшихся мастеров и конвоиров, что им решительно пресечена явная попытка побега.
Никому из нас не требовалось доказывать, что все мы стали очевидцами явно преднамеренного убийства, свидетелями обыкновенной расправы с неугодным и доселе не смирившимся пленным. Невольно припомнилось, как совсем недавно Маэстро наотрез отказался выполнить заказ Черного на хитроумную игрушку.