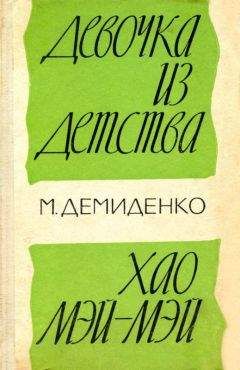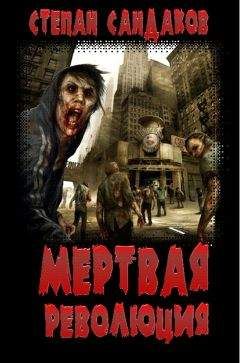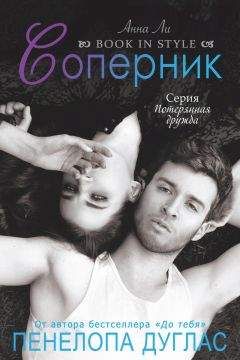Не у меня одного сдали нервишки Все стоят подавленные, точно раскопали могилу с замученными родными.
— Как они могут жить! — говорит какая-то женщина. — В Германии. Наверное, в ней все трупами пропахло.
Полковника вермахта мы вынули из земли осторожно и положили на машину.
— Везите, хлопцы, — сказал Бельский. — Похороните. Креста не ставьте.
— Если со своими так, то с нашими-то они и вовсе не церемонились, — сказал кто-то из калек.
— Запросто! — заверил Швейк и глупо улыбнулся. — Чего его хоронить? Пес и есть пес. Я бы их всех живыми в землю закопал.
— Парень, — говорит слепой Зиновий. — У меня счеты с ними не меньше твоих, но дело-то не в них, а в тебе. Дальше носа ничего не видишь.
— А чего? — не сдается Швейк с маслозавода. — Зачем нам галоши, лишь бы были гроши хороши. Витамин Ц — сальце, маслице, хлебце, винце…
— И ремень на одно место, — добавляет Яшка.
— Хватит, — вдруг ярится Швейк. — Наелся. И еще проволокой. И еще прикладами. И еще ножками от табуретки. И еще… Ух, гуманисты! — кричит он, точно выкрикивает грязное ругательство.
Он хватает китель, на ходу напяливает форму гестаповца. Клифт у него шикарный.
Люди молча смотрят вслед. Даже слепой Зиновий повернул на звук удаляющихся шагов голову, задрав ее вверх, как все слепые.
— И все-таки похороните, — говорит Бельский.
Он вылезал из разрытой могилы, но оступился, обвалил край, покачнулся и схватился за торчащую из земли полосу железа. На его руке выступила кровь.
— Черт возьми, — ругается Бельский. — Как пирог грибами начинили землю железом, ступить некуда.
Он высасывает из руки кровь, оплевывает.
— Йода! Йода принесите! — раздаются голоса.
— До свадьбы заживет, — шутит Бельский.
— Ржавчина, попадет какая-нибудь бацилла столбняка.
— Э-э-э… Если от каждой царапины столбняком болеть, вся бы наша армия в госпитале оказалась. Заживет. Перекур.
Он достает из кармана пачку «Казбека», открывает, протягивает. К желанным папиросам тянутся десятки рук, закуривают и женщины. Пачка пустая.
— Вам не осталось.
— Я не курю.
Бельский худой до невозможности. Глаза глубоко запали, скулы выпирают, как ключицы, а ключицы торчат под офицерской гимнастеркой, как прорезывающиеся крылышки у молодого ангела. До войны он тоже был кожа да кости, а теперь шкелет, точно ленинградский блокадник. Люди садятся на камни, на оставшиеся чудом в сквере скамейки, облупленные, с двумя-тремя рейками. Замечательные парковые скамейки! Их вчетвером с места не сдвинешь, а уничтожить можно только путем прямого попадания пятидесятикилограммового снаряда. Их свободно можно было бы ставить вместо противотанковых ежей.
— А где ж остальное начальство? — спрашивают исполкомовцев. — Губернатора не видно, товарища Тищенко, Мирошниченко…
— На левом берегу, — объясняют им. — На Вогрэсе все порвано. Электричество необходимо, как вода.
— Это что, прием в исполкоме? Так считать? У нас вопрос. Когда город разминируют?
— Уже двадцать тысяч мин сняли. Военные уйдут. Придется самим работать.
— На Чижовке старуха подорвалась и внучку подорвала. Нашла итальянское яйцо, красивую гранату, подлюги, сробили. Думала, игрушка, принесла внучке поцацкаться, та и доцацкалась.
— Отлично, что собрались на воскресник, — говорит Бельский. — Обязательно проводите беседы, особенно с пацанами, чтобы ничего не трогали и по развалинам не шлялись. Немцы специально заминировали город, чтоб отбросить нас на триста лет, до татарского ига. Снег сойдет, всякие сюрпризики вылезут. Дружины нужны. Постой, ты, кажется, Козлов, — узнает Рогдая Бельский.
Рогдай стоит и курит дармовую папиросу.
— Я вас тоже признал, — отвечает непринужденно брат.
— А батя где?
— Пропал.
— Мать?
— Пропала.
— А где старшой?
— Вон стоит, он стеснительный.
Бельский встает, подходит ко мне, рассматривает…
— Медаль. У меня и то нет. Молодец. За что?
— Пофартило, — вместо меня отвечает Рогдай.
Бельский искоса поглядывает на него, как он лихо затягивается.
— А ты что, не куришь?
— Не особенно, — отвечаю я. Я стесняюсь ответить, что папиросы просто не досталось, я, как всегда, пока протиснулся, протянул руку, опоздал, — расхватали более расторопные.
— Правильно делаешь, ваш отец тоже не курил. Тебя, кажется, Альбертом зовут? Приходи в исполком, у нас пока еще нет постоянного здания, найдешь?
— Да, знаю.
— Направим учиться на курсы минеров. Комсомолец?
— Нет.
— Как так? — Бельский обводит всех удивленным взглядом. — В армии был, а в комсомол не вступил?
— Так у нас, товарищ начальник, — встревает Рогдай, — в роте одно старье, неполноценные, с госпиталей, вроде бы на курорте.
— Шустрый парень, — говорит в стороне безрукий Николай. — Чего лезешь в разговор, когда не спрашивают?
— Сосиски с капустой вкуснее всех блюд, — доносится от развалин гостиницы. Через ограду перепрыгивает Швейк с маслозавода, в руке у него губная гармошка. Он подходит к слепому Зиновию, сует гармошку. — Чем зря поучать, сиди играй, веселее будет.
Слепой повертел гармошку.
— Я ж не фриц, не умею.
— Тогда пой.
— Это завсегда, — смеется Зиновий, потом становится серьезным. — Спою нашу, по заявке. Воронежская Каховка.
И он запел:
Мы вспомним Чижовку, как помним Каховку…
Очень сожалею, что запомнил не все слова той далекой песни, привожу, что осталось в памяти:
На миг, на минуточку вспомним, товарищ,
Как бой за Чижовку вели…
Несколько голосов подхватили песню, сочиненную в окопах на окраине города, где в сентябре прошлого года шли бои.
Мы шли в наступленье при свете пожарищ,
То склады горели вдали.
Предместье Чижовки, задание ясно…
Брать штурмом пришлось каждый дом.
На улице Светлой, на улице Красной
Врага мы встречали огнем.
Люди разбирают лопаты, кирки, пилы… На этот раз нам достаются лопаты. Мы закапываем гнездо немецкого зенитного пулемета около памятника Никитину, оно вырыто в той когда-то для меня огромной горе, с которой я первый раз в жизни скатился на лыжах.
А вечером мы, пацаны, стащили кресты и обломки деревьев на площадь обкома. Никто не захотел брать дуб для дома. А материал отличный: и на переплеты годный, и на столы, на все, что угодно, тем более за доску платили триста рублей.
Костер получился богатый. Пламя поднялось выше развалин, и мы бегали вокруг костра, орали что-то: казалось, что войне почти наступил конец.
В каюте класса первого «Садко» — богатый гость,—
затянул довольно неприличную песню Швейк, но Рогдай дал подножку, он упал, ударился об асфальт и только тогда сообразил, что этой песне не место здесь, на нашей площади. Как памятник, стояли несколько оставшихся колонн бывшего обкома. Потом колонны снесли, а зря. Я бы их оставил. Они нужны были бы будущим поколениям.
в которой наш герой учится не ошибаться.
«Человек может ошибаться много раз, сапер однажды», — эту истину я усвоил, как только увидел старшего сержанта Зинченко, руководителя краткосрочных курсов по минированию и разминированию. Зинченко представлял одновременно начальника курсов, преподавателя, завхоза, т. е. он имел право заявить: «Курсы — это я». Был старший сержант, как подавляющее число младших командиров, у которых фамилия оканчивается на «ко», подтянутым, исполнительным и лишенным юмора. Хотя что же юмор? В разных странах и у разных народов он свой. Юмор — понятие условное.
Я знаю факт — в конце лета сорок первого года в районе Минеральных Вод немецкие летчики вместо бомбы сбросили старого еврея. Наверное, они хохотали до слез, восхищаясь своим остроумием. А у нас в классе была девчонка, Марта, покажи палец, она от смеха присядет и не встанет. Так что юмор — дело сугубо индивидуальное. Зинченко, например, засмеялся, когда Роза, дивчина лет семнадцати, тоже курсантка, не имея понятия, что такое винтовка и как из нее целятся, вместо того, чтобы приложиться щекой к прикладу, сунула голову под приклад (мы изучали прицеливание, винтовка была закреплена на специальном станке, чтобы старший сержант через специальное зеркальце эффективно и наглядно контролировал точность прицела). Действия Розы были крайне глупы и несуразны.
— Где твоя винтовка? — спросил старший сержант и сам же отметил: — Оборону в окопе держит. Хе-хе-хе…
Смешки его были сухими. Видя, что мы не поняли, о чем идет речь, он перестал смеяться и объяснил:
— Это я анекдот рассказал. Не дошло?


![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/205932/205932.jpg)