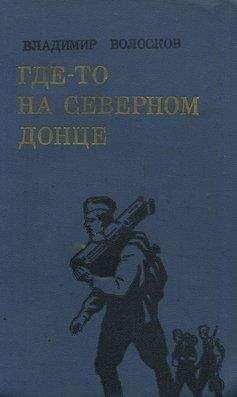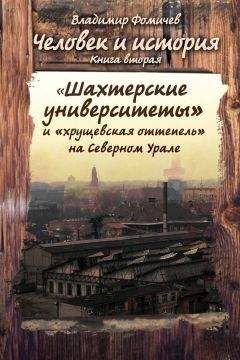— Ломились, как черти! — весело жалуется пулеметчик Максимов, кряжистый сибирский мужик с густыми черными бровями на круглом бабьем лице. — Пока гранатами сверху не поддали — до тех пор кочевряжились. Все на своем настоять хотели. Теперь отвалили. Думаю, боле здесь не попрут. Не по зубам…
Лепешеву становится весело. Жив хитрющий домовитый Максимов, жив и невредим его второй номер курский соловей Алеша Крыночкин. А что еще надо командиру… Да разве с таким народом пропадешь!
— Дайте закурить, — устало говорит Лепешев и садится на невесть откуда взявшийся в пулеметном окопе чурбачок.
— Пожалте, товарищ лейтенант. Трофейную сигарочку желаете? — Максимов засовывает руку в нишу, роется и подает толстую длинную сигару.
— Ох, Максимыч, Максимыч!.. — вздыхает Лепешев, но сигару берет, откусывает кончик, закуривает.
Максимов действительно и хитер, и домовит. У него всегда все на месте, все сделано по-хозяйски. Слукавит, а нужную вещь достанет. Вон и позиция у него оборудовала капитально, добротно. Вместо бруствера два толстенных бревна, уложенных друг на друга. Меж ними вырублена амбразура. Ни дать ни взять — дзот, нет лишь перекрытия. Поди узнай, откуда этот хитрюга умыкал бревна, где достал топор… В окопчике ниши обложены кусками досок. Там — харч, там — курево, там — боезапас, там — вода. Все на месте у Максимова. Этот и воюет по-хозяйски, с расчетом. Наверняка двойную норму патронов у Глинина тяпнул, а посмотреть — вроде бы ничего лишнего нет, как у всех — два ящика.
Лепешев блаженно курит, отдыхает.
— Ну как там у вас, товарищ лейтенант, тяжеленько было? — интересуется Максимов.
— Хватило.
— А у нас ничего. Жить можно. Ежели пуле башку не подставишь — жив-здоров будешь. На нашем пятачке и мина, и снаряд — все мимо, в реку, значится… Немец как первый раз пошел…
* * *
Максимов продолжает говорить, а Лепешев думает о своём. Думает о том, что он очень удачливый командир, что ему здорово повезло с солдатами. Не будь у него во взводе таких бывалых, прошедших огни и воды бойцов — не известно, чем бы кончился нынешний бой. И вспоминается Лепешеву прошлое тяжелое лето.
Поставили его тогда командовать взводом киевских студентов-добровольцев. Парни подобрались что надо. Грамотные, смелые, сильные ребята. А вот в первом же бою растерялись. И бой был не из тяжелых, и обстрел так себе, из средних, и немец не сильно напирал, а растерялись. Лепешев командует, кричит, пистолетом грозит, а ребята не понимают. Хоть ревом реви! Одни залегли, другие вдруг штыки наперевес — и в атаку, а несколько человек дали стрекача. Из тридцати шести бойцов девять остались лежать в неубранной густой пшенице.
Во втором бою было легче. И все равно не без конфуза. Каким-то чертом занесло к мельнице, где разместился взвод на привал, двух немецких автоматчиков. Ребята их увидели издали. Нет, чтобы залечь, подпустить — и решить дело одним залпом; нашелся герой — ура! — и в атаку. За ним другие. Немцы пластом на землю и открыли огонь. Когда Лепешев вернулся от комбата, лишился его взвод еще пятерых бойцов. Троих из них похоронили тут же у мельницы. Но немцы все же не ушли.
Через месяц от всего взвода осталось шесть человек. Из окружения вынесли они раненого Лепешева на своих руках. И лейтенант знает, что эти шестеро, где бы сейчас ни были, не погибнут просто так, ни за понюшку табаку. Возмужали, стали настоящими солдатами. Если понадобится, Лепешев готов поручиться головой за своих студентов перед нынешними их командирами.
Неумный человек изобрел поговорку: за одного битого двух небитых дают. Лепешев в том убежден. Лично он одного обстрелянного бойца не променяет и на десять салажат. Таким, как Глинин, Максимов, Крыночкин или тот же рыжий бронебойщик, на войне цены нет. О таких вот поломает зубы немецкая сила. И Лепешев в самом деле чувствует себя удачливым. Мало взводных командиров в армии, у которых все бойцы катаны-перекатаны войной.
* * *
Лепешев думает, наслаждается сигарой, а Максимов с Крыночкиным спорят.
— Наши! — утверждает Максимов.
— Не похоже, — не соглашается Крыночкин, долговязый, узкоплечий парень, и щурит выпуклые карие глаза, вглядываясь в левый берег. — Наши в семи километрах отсюда переправились.
— А я тебе говорю — наши! — сердится первый номер. — Вот те крест наши! Товарищ лейтенант, ведь это наши?
— Что? — Лепешев подымает голову.
— Я говорю: это наши?
Лепешев лениво встает, подносит к глазам бинокль. На низменном левом берегу копошатся люди. Роют окопы, накрывают их маскировочными сетями, оттаскивают к реке землю на плащ-палатках. В окулярах бинокля мелькают похожие одна на другую фигурки в грязных гимнастерках. Не поймешь. Но вот в поле зрения попадает всадник. Маленький, толстый, он восседает на гнедой лошади и энергично взмахивает короткими руками, объясняя что-то толпящимся вокруг него людям.
— Наши! — весело подтверждает Лепешев. Командира своего полка майора Лоскутова он способен узнать даже в кромешной тьме.
— Я ж тебе говорил! — победно шумит Максимов. — Эх ты, курская размазня! Поезжай к нам в Сибирь — поучись глядеть!
Крыночкин не обижается. Оба пулеметчика хохочут и радостно толкают друг друга локтями. Лепешеву тоже радостно. Теперь, когда сзади родной полк с приданным ему саперным батальоном, он знает, что все будет в порядке, что за спиной есть надежная опора. И не беда, если полк потерял весь автотранспорт. Зато есть две тысячи обстрелянных бойцов, достаточно пулеметов, несколько орудий, средства связи и даже такая роскошь, как маскировочные сети.
— Смотри-ка, целый флот! — громко гогочет Максимов, тыкая корявым пальцем куда-то вбок.
Лепешев поворачивается и видит среди реки понтон. На понтоне повозка с ранеными, вокруг повозки носилки. Санитары неумело орудуют шестами, гонят понтон к левому берегу. Навстречу ему движется несколько порожних плотов.
«Эх, только бы не было воздушного налета…» — озабоченно думает Лепешев.
Будто угадав его мысль, Максимов бодро говорит:
— «Юнкерсов» не будет, до ночи переправятся. А там и нам сам господь бог велел…
Лепешев смотрит на небо и только сейчас замечает, что солнце уже скатывается к горизонту, что воздух посвежел и на прогретую землю легли длинные тени. «Хорошо бы успели до темноты, а то — чем черт не шутит — вздумает немец предпринять ночную атаку — тогда мы слепые. В рукопашной нам не отбиться…» — тревожно соображает он. Одолеваемый новыми заботами, Лепешев тушит сигару.
Рано радовался Лепешев. Помрачнел лейтенант после обхода позиции. Из двадцати шести человек пополнения шесть были убиты и девять ранены. Потери среди пулеметчиков особенно огорчили. Семь раненых и четверо убитых. Один расчет разнесло прямым попаданием снаряда. Останки бойцов даже не стали откапывать из развороченного окопа. Нечего было откапывать.
Обходя траншеи, Лепешев останавливается у сгоревшего бронетранспортера, стараясь разглядеть, что осталось от отважного писаря, но ничего не обнаруживает. Разорвало тело бойца взрывами, а огонь довершил смертное дело.
Был человек, жил, чему-то радовался, чем-то огорчался, потом писал воинские бумаги и не гадал, не думал, что с доблестью уйдет из-под живого ясного неба, не оставив после себя ничего, кроме обгорелого железа и маленького клочка прокопченной, изрытой взрывами земли.
Другой писарь, лысоголовый полный мужчина, погиб, как погибают многие. Маленькое пулевое отверстие в виске — и нет человека. Но тело есть, и товарищи могут предать его земле с положенными воинскими почестями. А от этого ничего…
— Как его фамилия? — спрашивает Лепешев оставшегося в живых писаря.
— Петров. Петров Николай.
— А отчество?
— Хм… — Писарь озадаченно закатывает к розоватому небу маленькие зеленые глазки.
— Откуда он родом?
— Не знаю. Мы из разных отделов и мало говорили на эту тему. Кажется, он откуда-то с Волги…
— Эх вы, чернильные души! О товарище своем ничего не знаете! — сердится Лепешев.
Писарь, щуплый белобрысый человечек с острым носиком, виновато моргает куцыми белыми ресницами и жалко улыбается.
Лепешев жалеет о своей несдержанности. Напрасно сердился. Напрасно вспугнул в человеке, выдержавшем первый бой и вышедшем из него живым, торжественную радость победителя.
— Ладно. Бывает, — примирительно говорит лейтенант. — Всех не упомнишь, но стараться помнить надо.
— Буду помнить, товарищ лейтенант! — обрадованно вытягивается писарек.
Потом Лепешев долго стоит над телами погибших, сложенными в ряд за задней стеной конюшни. Многих из них лейтенант видел раз в жизни, да и то мельком, когда принимал пополнение. Кто они, что они — Лепешев не знает. Не знает лейтенант и того, как и в какую минуту они погибли. Он знает одно — они были стойкими воинами, и это главное. Может быть, через много лет после войны, разыскав нужную нить в воинских документах, явится к отставному полковнику Лепешеву жена или мать погибшего здесь бойца, явится и потребует: расскажите о последнем часе моего мужа или сына! И Лепешев, порывшись в отягченной боевыми событиями памяти, скажет: «Да. Помню. Он был стойким солдатом. Пусть знают об этом его дети, если они есть».