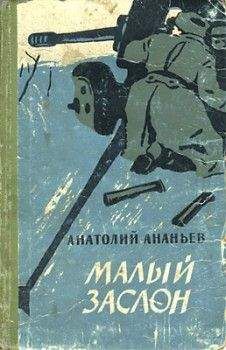Его не расстреляли. Когда его повели на край села, за хаты, в нем проснулась жизнь, он почувствовал, что тело его крепнет, к нему возвращается прежняя сила. Это был бунт крови, бунт жизни. Стрешнев выхватил винтовку у ближнего немца и стал ею действовать, как опытный солдат, не раз участвовавший в штыковых атаках. Одного он сразу заколол, двое набросились на него. Это была смертельная схватка. Он победил. Он оставил три трупа и побрел, опираясь на винтовку, прямо по степи. Шел почти полночи, едва передвигая ноги. Бой обессилил его. Он падал, поднимался и опять шел.
Постучал в крайнюю хату какого-то села. Больше ничего не помнил. В этой хате пролежал, целый месяц, пока не затянулись его раны. Хата принадлежала женщине, проживавшей здесь с дочерью. Они ухаживали за ним, как за родным, и выходили его. Через месяц он попрощался с ними и ушел. Девушка, ухаживавшая за ним во время болезни, стала впоследствии его женой.
Немец сидел неподвижно, как сыч, не подозревая, какую бурю воспоминаний он вызвал.
— Ну что, вспомнил он, где мы с ним встречались? — усмехаясь, сказал командир соединения. — Пусть подумает!
Тараща свои маленькие глазки, немец с недоумением глядел на него.
— Не при-по-минаю, — пробурчал он. — Может быть, до войны в Париже, где я одно время был на дипломатической работе?
— Нет! — по-прежнему усмехаясь, сказал Стрешнев.
— В таком случае не представляю.
Стрешневу захотелось сбить с него спесь, которая еще оставалась в этом неподвижном лице и холодных, стеклянных глазах.
— Переведите ему, майор, — сказал он переводчику, — что в тысяча девятьсот восемнадцатом году он приказал расстрелять советского военнопленного, командира отряда. Это было под городом В. Пусть вспомнит… Командиром отряда был я.
— А-а… — вдруг с каким-то хрипом вырвалось у немца, он откачнулся на спинку стула. — Не может быть… Unmöglich!
— Ха! Ха! Ха! — рассмеялся Стрешнев. — Случайности бывают. Пожалуй, закономерно, что мы встретились с вами в такой обстановке. Это, если вы не забыли, наша третья встреча.
— Unmöglich! — повторил немец.
— Помните, вы еще меня спросили, кто я такой. Я ответил: человек. Вы на меня закричали, что красные — не люди.
Немец молчал.
— А вот мне доставили один ваш приказец, найденный сегодня в вашем штабе. Майор, прочитайте-ка его господину генералу, а то, может быть, он не помнит своих распоряжений, — сказал Стрешнев, передавая бумагу переводчику.
Майор прочитал:
— «Секретно. Предлагаю командирам частей под их личную ответственность по мере отступления наших войск с советской территории предавать огню предприятия, магазины, жилые дома. Работоспособное население уводить с собой. Сопротивляющихся и уклоняющихся уничтожить. Оставлять после себя голое поле. Барон Крейслер-Шпандау».
— Это ваш приказ? — спросил Стрешнев.
— М-мой…
— Кто же, выходит, люди: вы или мы?
С генералом вдруг произошла метаморфоза. Холодное, надменное выражение исчезло с его лица, оно посерело и сморщилось, стало старчески дряблым и маленьким, отчего еще более выделился его огромный зобастый подбородок. В глазах мелькнули тревога и затаенный испуг.
— Уведите его! — приказал командир соединения майору. — Пусть его допросит начальник штаба.
Сгорбившись, немец пошел из комнаты, но потом остановился и спросил заикающимся голосом:
— Я надеюсь, что со мной будут обращаться, как с военнопленным?
— Старый шакал испугался! — усмехнулся Стрешнев. — Переведите ему, майор, что мы пленных не расстреливаем, хотя он вполне заслужил, чтобы я всадил пулю в его медный лоб. Но пусть поживет. Вот кончится война, тогда его будут судить, как громилу, влезшего в чужой дом. Это пострашней для него, чем моя пуля. Ведите его, майор! Все!
Стрешнев наклонился над картой, взял карандаш и резким движением прочертил красную стрелу, летящую на запад. Она была прямая и ясная, как его жизнь, жизнь большевика и солдата. 1945
В одной из ленинградских школ преподавал историю СССР старичок учитель Анисим Иванович Каширин. Был он сухонький, маленький, собой невзрачный, с тихим голосом, носил старомодное пенсне на цепочке, которое у него постоянно соскакивало. Ловил он его обеими руками, как дети ловят бабочек, и жест этот вызывал смешок в классе.
— Тише! Тише! — приговаривал Анисим Иванович и сурово сдвигал мохнатые брови.
Однако школьники уже давно изучили его привычки, нрав, интонации его голоса, и суровость на лице учителя не пугала их. Да и сам он, пока прилаживал пенсне на носу, пока раскрывал школьный журнал, потом привычным движением вынимал платок из кармана, сморкался и откашливался, не очень-то требовал соблюдения абсолютной тишины, пожалуй и трудно достижимой в классе, вмещающем сорок характеров, сорок темпераментов, словом, сорок молодых людей 15-16-летнего возраста. Не было абсолютной тишины в классе и в то время, когда он вызывал учеников и спрашивал их. Правда, он не любил, когда подсказывали с мест, и в таких случаях приглашал подсказывающего к своему столу, ставил рядом с учеником, которого раньше спрашивал, и «гонял» обоих. Иногда таким образом у стола собиралось человек по пяти, и начиналась дискуссия, в которой учитель играл роль арбитра.
Класс любил такие зрелища.
Но вот дискуссия окончена, ученики опрошены, отметки выставлены. Наступала небольшая пауза. Анисим Иванович захлопывал журнал, поднимался со стула и прохаживался в молчании по классу своей старческой — «клюющей», как называли школьники, — походкой.
В классе начиналось оживление. Тут и там слышались приглушенные разговоры, с «воздушной почтой» пересылались из одного конца класса в другой записки.
Анисим Иванович, казалось, не обращал ни на что внимания, продолжал ходить вдоль парт, наклонив голову вниз и о чем-то сосредоточенно думая.
Так продолжалось минут пять.
Потом он вдруг резко останавливался, обводил класс строгим, почти суровым взглядом, еще грознее супил свои мохнатые брови и начинал очередную беседу по истории. Говорил он спокойным, ровным голосом, но так тихо, что приходилось напрягать все внимание, чтобы слышать его. И странное дело — класс, который только что шумел, разговаривал, мгновенно затихал, сорок разных характеров и темпераментов превращались в один, и этот един был самым спокойным и внимательным слушателем.
Такова магия слов, которой обладал маленький старичок учитель. Он не был оратором, поражавшим слушателей богатыми интонациями, хорошей дикцией, точеной фразой. Для оратора у него не было и соответствующих голосовых данных. Но в его словах было столько нового и интересного, что ученики слушали его затаив дыхание, чему способствовала и сама форма изложения, к какой он прибегал.
«Подсядем к бивачному костру, где греются солдаты накануне сражения, в котором они завтра прославят Родину. Послушаем, о чем они говорят, — рассказывал Анисим Иванович о походах Суворова. — Видите, к ним подсаживается небольшого роста, худощавый человек в потрепанном офицерском плаще…»
Или, говоря о крестьянских восстаниях против угнетателей помещиков, он начинал так:
«Побываем во владениях крупного помещика графа Тарповского. Его дом, похожий на замок, высится на холме, окруженный тенистым парком. Но мы не пойдем туда. Мы заглянем с вами в село, расположенное недалеко от усадьбы. Здесь мы увидим большую толпу крестьян, собравшихся посредине улицы, вдоль которой тянутся ряды убогих, крытых соломой домишек. Крестьяне одеты в рваные армяки и полукафтанья, почти все они босы. Толпа возбуждена, она окружила бородатого крестьянина, своего вожака, который, грозя кулаком в сторону усадьбы, говорит, что дальше так жить нельзя: помещик замучил их барщиной, довел до нищеты, управляющий имением избивает их, глумится над ними… Крестьяне сжимают кулаки, на их измученных лицах вспыхивает гнев. Сейчас схватят они топоры, вилы, грабли и бросятся на своих угнетателей».
Иллюстрируя таким образом события, Анисим Иванович в дальнейшем излагал их в исторической последовательности, приводил цифры, исторические документы, показания современников, обосновывал события высказываниями классиков марксизма, подбирал соответствующие цитаты из произведений Ленина. Ученики с захватывающим интересом слушали его. Это были беседы об историческом пути народов, населяющих Советский Союз, о ратных подвигах и вековой борьбе против иностранных захватчиков, нападавших на русскую землю и бесславно погибавших на ее просторах. События оживали. Ученикам казалось, что они сами принимали участие в битвах, брали вместе с солдатами Суворова Измаил, переходили через Альпы, гнали армии Наполеона от Москвы. Анисим Иванович подчас сопровождал свои беседы чтением отрывков из литературных произведений. Произведения, особенно нравившиеся ему, он прочитывал наизусть с трогательным пафосом. Иногда ученики замечали слезу, катившуюся по его щеке, но ни один из них не позволил бы себе в эту минуту засмеяться или пошутить над учителем.