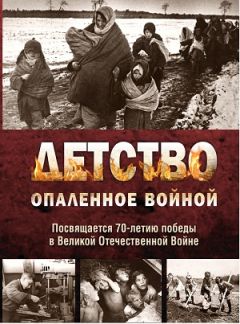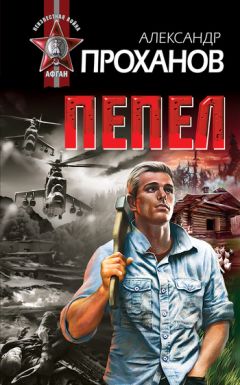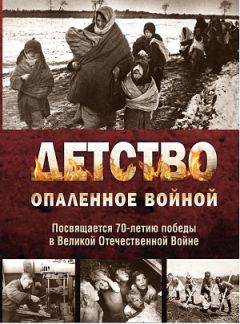Но сейчас генерал-математик закладывал числа в прицелы, складывал цифры потерь, проводил циркулем от синей Мечети до Мазари Алишер Навои, наполняя окружность огнем и дымом.
Суздальцев забыл, почему он здесь. Забыл о ракетах, которые оставались в Деванчи под беглым артиллерийским огнем. Он стоял на башне, выполняя приказ Стеклодува, — наблюдал разрушение города. Он должен был запечатлеть и запомнить. Он был наблюдатель, Свидетель.
Словно зоркий художник, он устремлял взгляд в город, выхватывал его моментальный образ, возвращал ударом зрачков на невидимый холст, — в свою дышащую грудь.
Солнце застыло в белом бесцветном небе. Опустило на башню столб жара. В звоне винтов кружили вертолеты, словно сплетали над городом тончайшую сеть. Командиры принимали сводки о продвижении войск, о подавленных опорных пунктах, о раненых и убитых. А он рисовал лик города, древний, морщинистый, грубо отпечатанный на горячей равнине. Свой собственный автопортрет.
Душа его напрягалась, пробиваясь к сокровенному знанию. Он добывал его с каждым вздохом, с каждым ударом сердца. Ему казалось, он помнил этот город по юным мечтаньям, когда в деревенской избе писал об очарованном страннике. Тот странник пустился в путь, чтобы оказаться в земном раю. Волшебный город был раем, где душа утомленного странника обрела совершенство в любви. Теперь этот город, этот поверженный рай вонзал ему в душу стальную иглу страдания. Два вертолета кружили над старым мазаром, выбирая цель для удара.
Он хотел уберечь Герат, уберечь его купцов и менял, камнетесов и стеклодувов. Уберечь перебегавших под огнем моджахедов и сидящих под бронею солдат. Он окружал Герат невидимой сферой, сквозь которую не пролетали снаряды, которую не пробивали ракеты и бомбы. Создавал эту хрустальную сферу из своих святынь, из бабушкиной седины, из пестрого маминого платья, из белого снега, на котором горела красная ветка брусники.
Город был из стекла. Под прозрачными кровлями были видны младенцы. На коврах сидели музыканты, хлебопеки пекли хлеба. И он, Свидетель, стоял на башне в минуту своего ясновидения. Спасая и сберегая Герат.
Он выглянул сквозь зубцы на окружавшие крепость кварталы. Вдалеке, по окраинам, вставали тучные дымы, словно вырастали огромные баобабы. Но под стенами крепости было солнечно, пусто. Тянулась улица с брошенной повозкой. Купольное строение бани блестело струйкой арыка. Лавки с закрытыми ставнями, переулок, уводящий с главной улицы в глубь квартала, где сразу же, разделенные на клетки, зеленели сады, открывалось внутреннее убранство дворов, виднелись сараи для скотины. И ни души. То ли люди при первой стрельбе покинули жилища, то ли затаились в глубине погребов, укрылись под глинобитными крышами.
Щелкнул выстрел. Пуля ударила в зубчатую кромку башни, в воздухе повисла каменная пыль. Суздальцев ощутил уколы отлетевших песчинок. Еще выстрел, и снова пуля черкнула по зубцу, отлетела к рыжим домам. Видно, в бане укрылся снайпер. Заметил на башне скопление офицеров и теперь стрелял по командному пункту.
— Поднять вертолет. Уничтожить снайпера, — спокойно произнес комдив. В этих бесстрастных словах Суздальцеву почудилось подобие числа. Математическая дробь. В числителе — приказ поднять вертолет. В знаменателе — приказ уничтожить снайпера.
Офицер, управлявший авиацией, подхватил приказ комдива.
— Беркут! Я — Заря! Поднять вертолет. Снайпер в районе бани. Уничтожить снайпера. Как слышите меня?
Вертолет появился над башней, словно его вознесло в протоках горячего воздуха. Стеклянно трепетал винтами, нежно стрекотал, поворачивался в воздухе, делая короткие развороты. Баня слишком близко прилегала к башне, и вертолет выбирал позицию, с которой мог атаковать баню, не засыпав снарядами башню.
Он нашел искомую точку. Ринулся вниз, целясь стеклянной кабиной в ржаво-серые купола бани. Треснуло высоко, помчались вниз заостренные смерчи, как щупальца каракатицы. Среди лавок, в клетчатых дворах страшно и плоско полыхнуло, словно вырвало клок земли. И оттуда, куда пришелся удар, вдруг с визгом, воплем, неистовым криком вырвалась толпа, пестрая, растерзанная. Мужчины в чалмах, простоволосые женщины с детьми на руках, быстроногие мальчишки. Выбитая огнем из нор и укрытий, толпа несла в себе боль, страдание, слепой ужас.
«Смотри!» — звучало среди воплей и стонов.
Толпа пронеслась, как пестрый растрепанный ворох, и скрылась, притаившись в своих утлых убежищах.
С бани больше не было выстрелов. Вертолет кружил в синеве, нежно трепеща лопастями.
Ольга уехала в Москву, а Суздальцев задержался в Красавине, чтобы уволиться из лесничества. Он сдал свои красные лыжи, на которых всю зиму летал по полям и лесам. Вернул лесничему железное клеймо, которым ударял в торцы спиленных стволов и в осыпанные опилками пни.
Тете Поле становилось все хуже. Из города приехал доктор, пожилой и печальный. Осмотрел ее и предложил лечь в больницу, сделать операцию. Но тетя Поля не согласилась. Решила остаться дома среди своих половиков, печных чугунков, не желая расставаться с курами, котом, строгим портретом Ивана Михалыча, который неодобрительно выслушивал ее отказ, как неодобрительно следил за ее болезнью, строго и неодобрительно слушал ее стоны и жалобы.
Вызвали дальнюю родственницу из-под Серпухова. Та обещала приехать через несколько дней. Суздальцев с тяжелым сердцем готовился к расставанию, зная, что если уедет, то не увидит больше тетю Полю.
Ночью он сидел у ее кровати, видя, как при свете лампадки провалились и почернели ее глаза, заострился нос и выступил подбородок. Рука, лежащая поверх одеяла, казалась черной, костлявой, как у большой птицы. Она задыхалась, стонала, старалась встать. Петр приподнимал ее на подушке, вливал ей в рот теплый настой калины. Она делала несколько глотков, падала на подушку и затихала. Но через минуту вновь начинала задыхаться, просила: «Пить!» И он, утомленный этой бесконечной бессонной ночью, не отходил от нее. Подносил к ее губам чашку с настоем.
Он никогда не видел, как умирают люди. Ему было страшно. Он чувствовал, что участвует в чем-то роковом, неотвратимом, загадочном, что неумолимо присутствует в мире, до времени скрываясь среди солнечного блеска, легкомысленных радостей, сладких предвкушений. Но потом вдруг приближается и стоит в изголовье, у никелированных жестяных шаров, у темного сундука, у косяков старых тяжелых дверей.
Она начинала бредить.
— Иван Михалыч, а Иван Михалыч, пожалей ты меня. Чего же я тебе такого сделала? Я же поперек тебя слова не молвила, — говорила она слезно, умоляя о чем-то мужа. И тут же начинала гулить, ворковать, будто ей являлись ее малые дети:
— Коленька, Васенька, да какие же вы масенькие, хорошенькие. Да какой же к нам Волчек из леса придет. Не страшный, косматенький, мы его по шерстке погладим.
Кого-то нежно укоряла:
— Что ж ты меня не выбрал-то. Я же на тебя налюбоваться не могла. Я же тебя звала, а ты меня на другую поменял. Вот мы и маемся, друг друга достать не можем.
Начинала разговаривать со своим соседом Николаем Ивановичем, утешая его:
— А ты ну их, ребятишек, Николай Иваныч. Они по глупости, малые. Ты, Николай Иваныч, Богу молись, он нас всех видит, всех любит.
А то вдруг начинала кричать, вырываться, словно кто-то на нее напал, бьет и терзает:
— За что? За что? Отпустите, Христом Богом молю!
А то вдруг умолкала, открывала глаза и молча, не мигая, смотрела в угол, где кто-то стоял, невидимый Суздальцеву.
— Акулина, — тихо говорила она. — Пришла за мной Акулина.
Он чувствовал, как она уходит. Не хочет расставаться со своим домом, деревянной столешницей, половицами с кольцом, цветком на окне, с котом, дремлющим на сундуке. Хватала руку Суздальцева, словно старалась удержаться, а ее сносило, отрывало, тянуло прочь. Он не отнимал руку. Умоляла кого-то не уводить ее, оставить ее здесь, предлагала вместо себя часть своей жизни и молодости. И одновременно боялась, что та, кто звалась Акулиной, услышит ее и заберет с собой.
Внезапно тетя Поля открыла глаза, и дыхание ее стало ровней и тише:
— Петруха, давай прощаться. Пора. Ты иди, отдыхай. Чай, целую ночь без сна. — Она отпустила его руку, и ему показалось, что она слабо оттолкнула его. Будто примирилась с тем, что ее уводят, и у ней больше не было сил противиться. Она отсылала Суздальцева, передавая себя той, невидимой, что подступила к ее изголовью.
Суздальцев ушел за перегородку и заснул, слыша, как барабанит в стекло дождь. Проснулся на тусклом рассвете. Осторожно вышел из-за перегородки. Тетя Поля не дышала, свесила руку, и рука была чуть теплой.
В тот же день из-под Серпухова приехала племянница, грузная, с больными ногами женщина в черном платочке. Соседки принялись хлопотать над покойницей. Обмывали, гремели тазами. Извлекли из сундука припрятанное для этого случая облачение. Обрядили тетю Полю в стираную юбку, белую блузку, чистые чулки. Повязали голубенький платочек. Однорукий плотник Федор Иванович сшил наспех гроб из сырых досок, и тетю Полю положили на стол посреди избы. Соседка читала над ней большую, замусоленную церковную книгу, сбиваясь, путая слова. Иван Михалыч строго и недовольно слушал женщину, смотрел на жену, лежавшую в гробу с тонкой горящей свечкой.