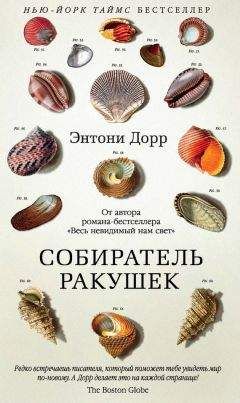Треск помех. Больше ничего.
Может, они слишком глубоко. Может, развалины дома экранируют сигнал. Может, в рации какая-то фундаментальная поломка, которую он не заметил. А может, ученые фюрера изобрели сверхмощное оружие, вся эта часть Европы уничтожена и Вернер с Фолькхаймером — последние живые люди на тысячу километров вокруг.
Он снимает наушники и выключает станцию. Пайки давно съедены, фляжки опустели. Они с Фолькхаймером, давясь, выпили по несколько глотков воды из-под малярных кистей, и Вернер не уверен, что сможет еще раз взять в рот эту гадость.
Батарея в рации почти села. Когда она кончится, можно будет вставить американскую одиннадцативольтную с черной кошкой. А потом?
Сколько кислорода в час потребляют легкие одного человека? Было время, когда Вернер с удовольствием занялся бы подсчетами. Теперь он сидит с двумя гранатами Фолькхаймера на коленях и чувствует, как внутри его гаснет последняя искра света. Вертит одну гранату, потом другую. Он взорвал бы их только для того, чтобы осветить подвал, чтобы последний раз хоть что-нибудь увидеть глазами.
Фолькхаймер иногда включает фонарь и светит в дальний угол, где на двух полках частью стоят, частью лежат восемь или девять гипсовых голов. Они примерно как у манекенов, только тщательнее проработаны: три с усами, две лысые, одна в военной фуражке. У них есть странное свойство: очень белые, они при выключенном фонаре как будто остаются на сетчатке Вернера, не вполне видимые и не вполне невидимые, и почти что светятся в темноте.
Безмолвные, внимательные, неморгающие.
Обман зрения.
Лица, отвернитесь.
В темноте Вернер подползает к Фолькхаймеру; так хорошо отыскать средь мрака мощное колено друга. Винтовка лежит рядом. Тело Бернда где-то позади.
— Ты когда-нибудь слышал, что про тебя рассказывают? — спрашивает Вернер.
— Кто?
— Мальчишки в Шульпфорте.
— Кое-что слышал.
— Тебе это нравилось? Быть Великаном? И что тебя все боялись?
— Мало радости постоянно слышать вопрос, сколько в тебе роста.
Где-то на улице взрывается снаряд. Где-то там горит город, океан разбивается о берег, морские желуди колышут веерами усиков.
— А правда, сколько в тебе роста?
Фолькхаймер испускает короткий смешок.
— Как ты думаешь, Бернд был прав насчет гранат?
— Нет, — говорит Фолькхаймер с неожиданной твердостью. — Они нас убьют.
— Даже если как-то забаррикадироваться?
— Нас раздавит.
Вернер пытается различить средь черноты гипсовые головы.
Если не гранаты, то что? Неужто Фолькхаймер и вправду верит, что кто-нибудь станет их раскапывать? Что они заслуживают спасения?
— Так мы будем просто ждать?
Фолькхаймер не отвечает.
— И сколько еще?
Когда сядет аккумулятор, можно будет вставить американскую батарейку, и радио проработает еще сутки. А можно вставить ее в фонарь Фолькхаймера. Батарейка даст им еще сутки треска атмосферных помех. Или еще сутки света. Но для выстрела из винтовки света не нужно.
Что-то малиновой бахромой колышется на краю зрения. Наверно, он принял слишком много морфия. Или болезнь прогрессирует и добралась до глаз.
Пепел снежинками вплывает в окно. Уже рассвет? Или это зарево пожара? Простыни насквозь пропотели, форма мокрая, будто он купался во сне. Во рту привкус крови.
Фон Румпель перекатывается на край кровати и смотрит на макет. Он уже исследовал каждый квадратный сантиметр игрушки. Бутылкой отколотил угол. Сооружения по большей части полые — шато, собор, рынок, — но зачем тратить время и ломать их все, если самого главного дома нет?
В несчастном городе за окном почти все горит или рушится, а здесь, в миниатюре, наоборот — город стоит, а дом, где он сейчас, испарился.
Могла девочка забрать его с собой при бегстве? Да, могла. Дядю перед отправкой в Форт-Насиональ тщательно обыскали — об этом фон Румпель позаботился — и не нашли ничего, кроме бумаг.
Где-то обрушилась стена, тонны каменной кладки с грохотом оседают на землю.
То, что этот дом стоит среди всеобщего разрушения, — вполне убедительное доказательство. Камень где-то здесь. Надо просто отыскать его, пока еще есть время. Прижать к сердцу и ждать, когда богиня протянет огненную руку и выжжет его беды. Выведет его из цитадели, из осады, из болезни. Он будет спасен. Надо лишь заставить себя встать с кровати и продолжить поиски. Методично. Сколько бы часов они ни заняли. Разобрать тут все по кирпичикам. Начать с кухни. Еще раз.
Слышно, как внизу скрипят пружины матраса. Как немец, прихрамывая, спускается по лестнице. Он уходит? Сдался?
Пошел дождь. Тысячи капель барабанят по крыше.
Мари-Лора встает на цыпочки и прижимается ухом к потолку. Слушает журчание дождевых струй. Как там эта молитва? Та, которую мадам Манек шептала, когда с Этьеном не было никакого сладу?
Господи, милость Твоя — огонь очищающий.
Надо включить смекалку и логику. Как сделал бы папа или великий морской биолог профессор Пьер Аронакс у Жюль Верна. Немец не знает про чердак. У нее в кармане камень, есть еще одна банка с едой. Это преимущества.
Дождь — тоже хорошо. Он хоть немного, да притушит пожар. Можно ли набрать дождевой воды для питья? Проделать дырки в крыше? Как-нибудь еще обратить его себе на пользу? Может, его стук заглушит ее шаги?
Она точно знает, где стоят два оцинкованных ведра: сразу за дверью спальни. Добраться до них, может, даже отнести одно сюда…
Нет, отнести не получится. Слишком тяжелое ведро, слишком много шума, вода расплещется. Однако можно добраться до ведра и погрузить в него лицо. Наполнить водой банку из-под фасоли.
Одна мысль о воде — о том, как кончик носа, потом губы касаются холодной поверхности, — вызывает биологическую тягу, какой Мари-Лора еще не знала. Она мысленно падает в озеро, вода заливается в уши, в рот, в горло. Маленький глоточек — и мозг снова заработает. Она ждет, что папин голос отсоветует идти, но голос молчит.
От шкафа через комнату Анри, через лестничную площадку до ее двери — двадцать один шаг. Мари-Лора берет с пола нож и пустую консервную банку, сует их в карман. Тихонько спускается по лестнице из семи перекладин и долго стоит неподвижно за стенкой шкафа. Слушает, слушает, слушает, пригнувшись. Миниатюрный домик вдавливается в ребра. Интересно, там, на крохотном чердаке, маленькая Мари-Лора тоже вслушивается за шкафом? Так же сильно ей хочется пить? Ни звука, только стучит дождь, превращая Сен-Мало в месиво из грязи и пепла.
Возможно, это ловушка: он услышал, как она открывает банку, шумно спустился на первый этаж, тихо поднялся обратно и теперь стоит перед шкафом с пистолетом в руках.
Господи, милость Твоя — огонь очищающий.
Мари-Лора упирается ладонью в стенку и сдвигает панель. Рубашки гладят ее по лицу. Она приоткрывает одну дверцу.
Никаких выстрелов. Ничего. За выбитым окном дождь хлещет по горящим зданиям с таким звуком, будто волны перекатывают гальку. Мари-Лора призывает дедушку, в чьей спальне сейчас стоит, — любознательного вихрастого мальчика, от которого пахнет морем. Веселый, непоседливый Анри берет ее за одну руку, Этьен — за другую. Дом становится как пятьдесят лет назад. Внизу смеются нарядные родители, кухарка снимает верхние створки с устриц, мадам Манек, молоденькая горничная, только что из деревни, стоит на стремянке, стирает пыль с люстры и напевает за работой…
Папа, у тебя есть ключи от всего на свете.
Мальчики ведут ее к лестничной площадке и дальше, мимо уборной.
В спальне остался запах немца: вроде бы ваниль и еще что-то кислое. Мари-Лора не слышит ничего, кроме дождя и стука крови в висках. Она тихо-тихо опускается на колени и ведет рукой вдоль щели между досками. Звук, с которым пальцы касаются ведра, кажется громче соборного колокола.
Дождь молотит по крышам и по стенам, струйками журчит за выбитыми окнами. Вокруг — ее камешки и ракушки. Папин макет. Ее одеяло. И где-то должны быть туфли.
Мари-Лора наклоняет лицо и касается губами воды. Каждый глоток кажется громким, как взрыв снаряда. Один, три, пять. Мари-Лора глотает, дышит, глотает, дышит. Она всей головой в ведре.
Дышит. Умирает. Грезит.
Не шаги ли там? Он на первом этаже? Не поднимается?
Девять, одиннадцать, тринадцать — все, напилась. И даже слишком — в кишках плещется вода. Мари-Лора опускает в ведро консервную банку.
Теперь вернуться без единого звука. Не задеть за стену, за дверь. Не споткнуться, не пролить воду. С полной банкой в левой руке, Мари-Лора начинает ползком выбираться из комнаты.
Она уже у двери, когда вновь слышит немца. Он тремя или четырьмя этажами ниже, перерывает комнату. Высыпает на пол целый ящик чего-то, кажется подшипников. Они подпрыгивают, звенят, катятся.