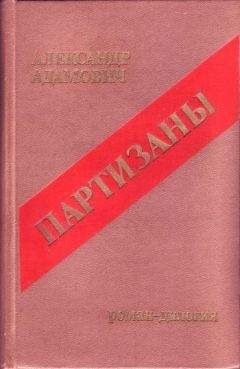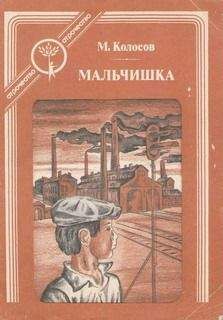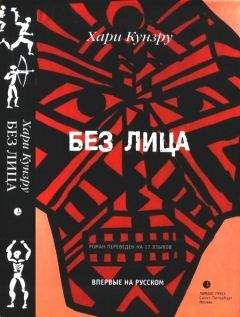Ознакомительная версия.
Сегодня Толя впервые рассмотрел Повидайку вблизи. Если на угловатом лице Голуба кожа темная, точно дубленая, то у Повидайки личико как у младенца. Странно видеть на нем седую щетину.
Соседи дымят махоркой и ждут. Говорят, машин на шоссе уже нет, поток их вдруг иссяк. Порохневич уходил куда-то и принес сведения: наши вышли из лесу и оседлали шоссе у моста. Мужчины стали рассуждать, нарочно или не нарочно сюда впустили немца. Еще недавно людям казалось непоправимой катастрофой то, что немцы уже здесь. А теперь радовались снова – каждому взрыву, каждой пулеметной очереди.
– Слышите, слышите? – спрашивают по очереди.
Если человек, счастливый своим завидным здоровьем, вдруг узнает, что он опасно заболел, он испугается, падет духом. Но наступит малейшее улучшение, и человек в этот миг будет более счастлив, чем когда был совершенно здоров. Вот такой короткой, но острой была радость и этих людей, которые еще утром считали, что случилось непоправимое. И ведь не знали они, чьи это пулеметы там беснуются, чьи снаряды рвутся. Радовались уже тому, что идет бой. Главное, чтобы не было тишины, чтобы не думалось: «Вот и все».
– Вот и все, – именно так и сказал Порохневич, когда бой притих. Лишь шуршит что-то вдали, точно по жести щебенку ссыпают.
– Автоматы, – сказал Алексей.
Последние несколько взрывов, и – тихо, тихо. Опять надвинулось то, что, казалось, отступило.
– А может, наш верх! – не сдавался Толя.
Порохневич проговорил:
– Машины опять идут.
– Все бы так держались, – будто споря с кем-то, отозвался Алексей.
Повидайка подхватил:
– Против русских могут только немцы, они народ техничный. Даже японцы, знаешь-понимаешь, не то. А вот глядите: в одна тысяча девятьсот пятом была война, потом – одна тысяча девятьсот четырнадцатый, а теперь тысяча девятьсот сорок первый. И там и тут, знаешь-понимаешь, кругом – пятнадцать… А когда еще будет пятнадцать: тысяча… две тысячи…
– Ну ты, «знаешь-понимаешь», – оборвал его хмурый Голуб, – помолчи.
– А какая польза? – тихо сказала о своем тетя Поля. – Побили их, а у каждого где-то мати.
Заговорил Порохневич:
– Голову сложить – дело не хитрое. Повидайка правду говорит: с немцем надо умеючи воевать. А кому тут воевать! Напекли лейтенантиков, вроде нашего Сашки. Им еще за гусями ходить. Мосты и те не пожгли, а их у нас по два на километре.
– Не трогай Сашу, – строго поглядела на мужа тетя Поля, – ты не знаешь, что с ним сейчас.
Но Порохневич как-то напрягся весь, худые щеки покраснели, он уже кричал:
– А где те, что гражданскую делали и все другое? Черт знает что! Мой начальник – пока сам цел был – говорил на совещании: теперь такое время, что мы должны подбирать кадры не по делу, а по надежности. Такой вот и спрос с них теперь. А шпионы-то настоящие целы, пстрыкают ракетами. Вот вам!..
Ишь ты – «вам»! А ты теперь кто? Думаешь, что всему конец. Вот ты когда раскрылся! А еще говорили, этот Порохневич партизаном был.
Уже с неприязнью глядел Толя на сухолицего человека с жесткими черными волосами, которые будто в самую кость вросли. Он лихорадочно готовил горячие и торжественные, как клятва или проклятие, слова, которые он сейчас скажет этому человеку. Но Толю опередила мама:
– От этого, Лука Никитич, не легче, кто бы там ни был виноват. Учили, учили детей…
Но Порохневича будто подменили. На его костистом лице, перечеркнутом прямыми черными усами, все перекосилось.
– Кричали: мы, мы, у нас – то да се. Где все это?
И этот человек, всегда казавшийся таким сдержанным, свирепо и грязно выругался и ушел, хлопнув дверью.
Голуб крякнул.
– Ну, я это… пойду.
За ним потянулся было Повидайка, но у порога задержался.
– Две тысячи сто девяносто третий.
Никто не понял.
– Тоже, знаешь-понимаешь, пятнадцать.
– Ты хотя эту переживи, – буркнул Голуб, – а то считает…
Перед тем как перебираться в поселок, мама сходила туда сама. Вернувшись, устало рассказывала:
– Зашла в аптеку, там один чемодан поставила, чтобы не держать все дома. Где там! Даже аптеку разграбили. На полу – столько всего. Из города я медикаменты как раз привезла. Начали немцы, а кончить нашлись и наши.
Толя не мог не взглянуть на Порохневича. Ну, конечно же, думает: «Вот вам!» Этот человек как бы присматривается со злорадством к тому, что делается, и можно думать, что он доволен, если подтверждается его какая-то нехорошая мысль.
– Одного даже застала, – продолжает свой рассказ мама, а Толя уже и на нее злится. – Этакий дубина, десятиклассник, ползает по грудам лекарств и пакетики разрывает. Я ему: «Что ты тут потерял? Думаешь, они тебе привезут?» Ухмыляется – дурак дураком…
– А что, немцам оставлять? – не выдержал Толя, заметив противную усмешечку Порохневича.
– Какие же вы все дурные – молодые, – сказала мать. – Теперь-то и насядут болезни. Немцам что? Болейте, помирайте. Не знаю, пригодится ли, а кое-что я отобрала, что отличить можно было.
Это похоже на практичную маму.
В тот же день пошли домой. По шоссе, не сбавляя скорости, непрерывным потоком мчатся машины с удлиненными радиаторами или совсем тупорылые. Эти непривычно безносые вот-вот, кажется, кувыркнутся через голову. Па кабинах и капотах машин – красные полотнища с белым кругом, в который заключен похожий на паука черный крест-свастика. Для своих самолетов, наверное. А наших, выходит, не опасаются. Почему? В кювете лежит наша полуторка, ее, говорят, догнал первый танк и просто столкнул с шоссе. Пугающе желтеет свежий холмик земли. По белым от пыли канавам и между придорожных деревьев идут люди. Их много, они какие-то пришибленные. Кажется, что ночью во время сна чья-то чудовищная рука сгребла людей с огромной территории и швырнула их на землю – и вот те, что уцелели, разбредаются, сами не зная куда. Упоенные успехом, первые немцы не обращают внимания даже на людей в полувоенной одежде. Немцы спешат в Москву.
Участники событий, конечно, воспринимали и осмысливали происходящее непосредственно и узко; события несли их в своем потоке, и каждому видны были лишь ближайшие волны этого потока, хотя каждый жадно стремился заглянуть как можно дальше.
Те, которых мчали моторы к сердцу Советской России – навстречу гибели, верили в своего фюрера, как верят, вынуждены верить разбойники в удачливого, всех подчинившего своей воле атамана, в его везучесть и прозорливость. Пока что фюрер всегда был прав и не правы оказывались те, кто принимали всерьез угрозы авторов мстительного Версальского диктата, те, кто боялись немедленной расплаты за вторжение в Рейнскую область, опасались, что Франция и Англия вступятся за Чехословакию, шептали о неприступности линии Мажино, опасливо косились на Америку, пугали русскими просторами, резервами, дорогами, партизанами. Во всяком случае, спокойнее, если веришь в кого-то самого прозорливого. Далеко заглядывать не стоит: будущее все-таки страшит. А что, если это только начало, а впереди годы и годы войны все более безнадежной, и потом – новый Версаль?.. Нет, все хорошо, русские бегут, Красной Армии уже нет…
– Wolf, wo hast du denn deine Mundharmonika? Spiel nochmal das russische Lied… «Wenn mein Liebster sagt adieu, tut das Herz, mir so weh»…
– Was für eine schöne Bruststimme hat die Kowalowa.
– Oh, Sängerinnen haben immer eine schöne Brust. Sie soll eine Deutsche sein. Es gibt ja viele Deutsche in Russland, irgendwo an der Wolga… Dort herrscht ständig Hunger.
– Wolga, Wolga, Mutter Wol-ga…
– In sechs Wochen sind wir da.
– Ist das im Kaukasus? Ich will mich wenigstens noch rasieren vor Moskau. Als wir in Paris einzogen… Na, du Schwein, schneuz dich mal bischen vorsichtiger.
– Bist selber ein Schwein, mit so 'ner Fresse willst du nach Moskau!
– Kannst dir deine Wut für Amerika aufheben.
– Hinter Moskau fängt Sibirien an. Huh, da ist's kalt.
– Sibirien schenken wir den Gelbhäutigen, den Japanern. Der Führer gibt's ihnen gern. Was anderes ist Indien. In Indien liegt Englands Kraft, hat mal jemand gesagt[1].
У тех, кто тащился по пыльным кюветам, у тех, кто следил за нескончаемой волной нашествия, был свой взгляд на события. Поскольку они были живы, они не верили, что это конец всему. Люди эти не полагались на чью-либо удачливость или интуицию, они только понимали, что на их стороне что-то большее, чем сила техники, и потому в глубине души верили, что дело лишь во времени. Немцы уже здесь – это непонятно, это ошеломляет. Но Россия велика, и она всякое перевидала. Это они тоже помнили, хотя, может быть, некоторые и не думали об этом, а лишь старались не поддаться первой волне, казалось, заботились лишь о том, чтобы уцелеть.
У других были мысли серьезнее: о фронте, о воинском, о партийном долге. Ручейками текли они на восток по лесным и полевым дорогам, уходили на юг, где между двумя немецкими клиньями, охватывающими Полесье, скопилось немало боеспособных советских дивизий.
В поселке – не протиснуться. Улицы, базарная площадь, школьный и больничный дворы – все запружено машинами. Оставлена только полоса асфальта, по ней в одном направлении движется грохочущий поток.
Под ногами вороха пестрых бумажек, жестянки, бутылки. На каждом шагу разделывают свиней, дымят кухни, немцы в одних трусах бреются на подножках машин, на жестяных ящиках от снарядов. И тут же неподалеку несложные сооружения: яма и доска над нею, жердочка для устойчивости. Над ямами сидят немцы уже совсем голые, одна рука на жердочке, в другой журнал с рисунками. Читают. Эти насесты везде, и, как нарочно, на самых открытых местах – прямо в окна людям.
Ознакомительная версия.