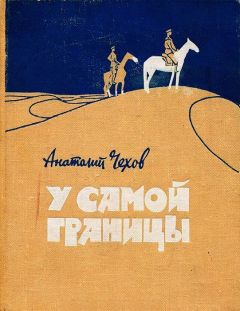Старшина глянул на раскаленную пустыню, покачал головой:
— Гасану можно отдыхать, нам нельзя, надо идти…
И снова потянулся маленький караван через барханы и плотные солончаки, и снова кругом только палящий зной, коричневые бугры песку, с унылым однообразием уходящие к горизонту, да на гребнях скелеты высушенного зноем саксаула.
Курбана раздирали самые противоречивые мысли. Андроса он знает всего два месяца, а Меджида — с самого детства. Какой он ни есть, а все-таки земляк, свой человек. Привезут они Меджида на заставу, сдадут под стражу, будет его судить военный трибунал. Что сестра Меджида Зоря скажет? «Ты моего брата погубил», — скажет. Прощай тогда Зоря, никогда уже не будет его женой… А старая Фатима? Разве она простит, что он, Курбан, поймал в пустыне ее сына? Но, с другой стороны, не подоспей вовремя Андрос, может, не было бы теперь Курбана в живых, пристрелил бы его Меджид, как джейрана.
Обо всем этом раздумывал Курбан, развязывая путы верблюдов, проверяя седла и поклажу, об этом же думал, когда они двинулись дальше: впереди на Яшке Меджид со связанными руками, за ним Курбан и позади всех старшина.
Яшка, не желая идти в такую жару, непрерывно ревел, брызгая слюной и высовывая язык. Меджид совсем истомился и безвольно мотал головой из стороны в сторону. Оглядываясь назад, Курбан видел, каким усилием воли заставлял себя держаться в седле Андрос, словно от того, поймают они Гасан-оглы или не поймают, зависели судьбы войны.
Мерно и валко идут верблюды, шаг за шагом поднимаясь на гребни, спускаясь в низины, пересекая твердые, как цемент, солончаки — такыры.
Курбан вспомнил радиста Пономарчука, всегда проводившего политинформации. Международный империализм, — говорил Пономарчук, — только и ждет, чтобы растерялся хоть один советский пограничник. Этого достаточно, чтобы в образовавшуюся брешь сразу же проник диверсант. Конечно, Андрос не растеряется, а вот он, Курбан, неизвестно, оправдает ли доверие начальника заставы?
Курбан стал думать о старшине, чтобы не думать о Меджиде. Но рано или поздно Меджид все равно с ним заговорит и потребует помощи. Как посмеет Курбан нарушить закон и не помочь земляку и единоплеменнику?
Раскаленное до белого сияния солнце слепило глаза. Все тело сковывала тяжелая дрема. Медленно и неуклонно продвигался караван вперед и вперед, туда, куда вел едва заметный, исчезающий на солончаках след Гасан-оглы.
* * *
— Послушай, ата, не видал человека среднего роста, прихрамывает на правую ногу, несет большой мешок, идет на север? — перевел Курбан вопрос старшины и подивился, как это Андрос узнал внешность Гасан-оглы.
Величавый старик в высокой белой папахе, с белой бородой, неторопливый в движениях, с достоинством восседал на ишачке и молча смотрел на Курбана строгими печальными глазами, из которых одна за другой катились старческие слезы.
Курбан повторил свой вопрос; старик, прикрыв веки, проговорил несколько слов.
— Что он сказал? — нетерпеливо спросил Андросов.
— Сына убили, с фронта похоронная пришла, — перевел Курбан и в знак печали и уважения к чужому горю наклонил голову.
— Спроси у него еще раз, не видел ли он Гасан-оглы? — едва держась на ногах, приказал Андросов, ненавидящим взглядом окидывая все прилегающее к колодцу пространство.
Мимо них шли и шли к водопою тысячи овец, блея и тряся курдюками, поднимая облака бурой пыли. Солнце, скрываясь за горизонтом, тонуло в пыльной мгле. Быстро надвигались сумерки. Нечего было и думать отыскать след Гасан-оглы в темноте, на этой выбитой тысячами и десятками тысяч овечьих копыт земле.
— Был человек, — наконец ответил старик, — спрашивал дорогу к колодцу Кара-Таш. Очень устал. Не знаю, как дойдет…
— Зачем Кара-Таш? Кара-Таш совсем в другой стороне! — воскликнул Курбан.
Андросов сердито глянул на Курбана: пограничник не должен выдавать свои мысли.
— Бояр хорошо знал дорогу на Кара-Таш, за полдня бы дошли, — пробормотал старик.
Курбан быстро перевел его слова.
— О сыне говорит, — добавил он.
Старик указал в сторону Мухамедниязова, сидевшего на земле со связанными за спиной руками.
— В чем его вина? — спросил он.
— Кончал война, домой гулял, — считая, что так будет понятнее, на ломаном русском языке ответил Андросов.
Прикрыв глаза в знак того, что понял, старик неторопливо тронул пятками своего ишака. Ишак повернул и направился к разгоравшемуся неподалеку костру, который уже развели, чтобы сварить ужин, мальчишки-подпаски.
Остановившись перед сидевшим у тюков связанным Меджидом, старый чабан с презрением плюнул в его сторону.
Курбан вздрогнул, как будто плевок предназначался ему.
Война пришла и сюда, в пустыню, за тысячи километров от фронта. Каково было этому пастуху получить известие о гибели сына и видеть труса, бежавшего с фронта?
— Послушай, отец, — окликнул старика Андросов, — возьми, что хочешь, дай твоего ишака хоть на час.
Старик спросил, зачем русскому человеку нужен ишак, и когда узнал, что Андросов — пограничник, молча сошел на землю.
Андросов хотел объехать колодец по широкому кругу, чтобы на нетронутом песке найти потерянный след.
— Какой след, старшина, — попробовал отговорить его Курбан. Он видел, что Андросов вот-вот повалится от усталости.
— А луна-то вон какая, хоть газеты читай, — ответил тот, едва взбираясь на упитанного ишачка, покрытого кошмой.
— Охраняй задержанного, головой отвечаешь, — сказал старшина и, проверив, надежно ли связаны руки Меджида, поехал от колодца в сторону, противоположную той, откуда пришли овцы.
Курбан решил заняться делом: запастись водой, напоить верблюдов, сварить ужин. Теперь уже он не мог избежать разговора с Меджидом и нарочно задержался у колодца, добывая воду.
Привязав к Яшкиной сбруе длинную веревку, он отгонял верблюда на сотню метров, пока у края полуобвалившегося колодца не появлялось наполненное водой брезентовое ведро. Тощие сухопарые подпаски, черные, как головешки, дружно вытаскивали ведро, с удовольствием помогая Курбану, решив, что и он тоже большой военный начальник.
Напоив верблюдов и наполнив фляги, Курбан притащил охапку веток и корней саксаула, которые наломал по пути, стал разжигать костер. Саксаул вспыхнул, как порох, сразу приблизив подступавшие к огню сумерки.
Собрав сухой верблюжий помет, Курбан подбросил его в огонь, подвесил над костром котелок с водой.
Он надеялся, что Меджид уснет, но, взглянув на лежащего у тюков земляка, невольно вздрогнул: Меджид следил за ним внимательными, лихорадочно блестевшими глазами.
— Курбан, не развяжешь руки, брат не оставит ни одного Нургельдыева в живых, — проговорил Меджид.
Сделав вид, будто ничего не слыхал, Курбан разостлал на песке кошму, раскинул над нею полог, приготавливая постель для себя и Андросова.
Ни скорпион, ни фаланга — ядовитый паук — ни за что на кошму не полезут. Вся эта нечисть панически боится запаха шерсти, потому что овцы охотятся за фалангами и преспокойно их едят как лекарство. Курбан готовил постель на двоих, нисколько не заботясь о Меджиде. Больше того, он достал длинный волосяной аркан и разложил его по замкнутому кругу, потыкав палкой в песок, чтобы случайно не оказалась поблизости гюрза или небольшая, но стремительная, подпрыгивающая в воздух на полтора метра змея-стрелка.
Меджид презрительно наблюдал за ним. На девой руке Курбана не хватало безымянного пальца. Курбан на всю жизнь запомнил тот день, когда, словно иглы, зубы змеи впились ему в палец. Он вскрикнул: «Гюрза!», из кибитки выбежала с топором в руке мать, увидев две капельки крови на пальце сына, отрубила ему палец и сама лишилась чувств. Помедли мать минуту — пришлось бы рубить всю руку, полчаса — не было бы его в живых. С той поры Курбан очень осторожно устраивался на ночлег, над чем сейчас зло смеялся Меджид.
— Курбан, если ты меня не развяжешь, клянусь, тебя опять укусит гюрза!
— Замолчи, Меджид! Не могу я тебя развязать! Какой ишак кричал: «Домой иду, войну кончал!» — ты или я?
— А зачем папаху надел? — огрызнулся Меджид. — Я думал, свои!
— Какие свои? Кто такие для тебя свои? — возмутился Курбан. — Язык змеи и хвост шакала ты, Меджид, не хочу больше говорить!
— Ты сам ишак, Курбан.
— Почему я ишак?
— Потому… Думаешь, немцы взяли Москву и дальше не пойдут? Через неделю здесь будут. А что ты скажешь тогда? Что немецкого разведчика в пустыне ловил? Думаешь, я не знаю, зачем вы здесь? И еще раз ты дурак, Курбан.
— Почему я еще раз дурак?
— Потому что твой старшина умнее тебя, на ишаке в Кара-Кумы поехал, а ты здесь сидишь. Если умный ты, развяжи руки, другом будешь, уйдем к колодцу Аджарали, там Зоря и мать, Зорю тебе отдам, свадьбу сыграем, братом будешь… Хоть бы поесть дал…