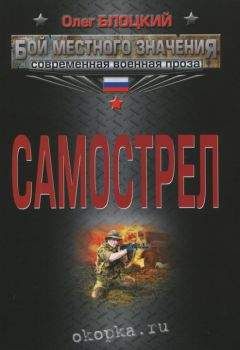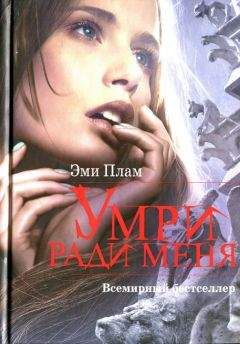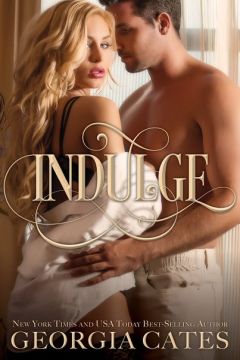Ознакомительная версия.
— Пусть лежит, — сказал устало подполковник. — Выйдет — в прокуратуру и дисбат. Посадим его. Чтобы другим неповадно было. Если мы на это сквозь пальцы посмотрим, то завтра половина полка калеками будет.
Замполит согласно закачал головой.
— Ты-то что молчишь? — взглянул на комбата подполковник.
Майор надул и без того огромные щеки, молча протягивая командиру конверт, усыпанный с одного края большими печатными буквами.
Капитан удивленно взглянул на письмо и закусил губу.
Подполковник начал читать. Капитан обиженно смотрел на майора. Комбат полуприкрыл глаза и, казалось, дремал.
Командир полка уронил кулаки на конверт и поднял глаза.
— Вот сволочь, — сказал подполковник. — Я так думаю: если нажрался, то ложись и спи, а не концерты устраивай. Я в Белогорске еще служил, в Дальневосточном, так случай у нас произошел. Один старлей был на дежурстве и домой ужинать пришел. А датый уже. Где так набрался — неизвестно. Короче, садится за стол и жене приказывает: «Бутылку доставай!» А она ему: «Тебе дежурить. Куда еще пить?» Тогда старлей пистолет выхватывает: «Иль ставь, или застрелю!» Жена думала, что он шутит, а он и в самом деле застрелил. А тут? Вот сволочуга! И как солдату с такими мыслями можно в караул, например, заступать? Как ему службу нести? Хорошо, что еще не застрелился. Характер у парня есть. Не каждый так сможет. Или пан, или пропал.
Щеки у майора опали, и он согласно кивнул.
— Постой, а это не тот боец, который на духов в полный рост с пулеметом шел?
— Тот, — ответил комбат.
— Хороший солдат…
— Не то слово, — сказал скупой на похвалу майор. — Из деревень они все, в принципе, мужики стоящие, а этот вообще золото. Если бы все такими были — всю жизнь можно в армии служить.
— К ордену представили?
Замполит опустил глаза и забубнил под нос: «Запуталось как-то все. Замотался, закрутился, а ротного проконтролировать не успел».
Капитан врал без зазрения совести. Командир роты принес наградные листы. Замполит распушил пальцами бумаги, наткнулся на Нефедова и брюзгливо сказал: «У него медаль „За отвагу“, а ты еще и на орден тянешь. Жирно для одного».
Лист превратился в мелкие клочки.
— Представим, сегодня же и представим, — зачастил замполит, делая пометки в блокноте, словно имел способность сразу обо всем забывать.
Седой подполковник склонил голову и начал вертеть зажигалку в пальцах.
Майор смотрел на командира. Замполит держал ручку наготове.
Комполка вздохнул, щелкнул зажигалкой, закурил и сказал:
— Нефедова представить к ордену Красной Звезды. Оформить руку как ранение на боевых. Послать благодарственное письмо за воспитание сына в семью. Сфотографировать у развернутого знамени части. Направить письма в военкомат и сельсовет с просьбой получше его трудоустроить. Письма я и начальник политотдела подпишем.
Ручка порхала над блокнотом. Майор впервые за много дней улыбнулся…
Поздно вечером солдат из санчасти пришел за письмом к Свиридову. Фельдшер унес его к себе и там, в комнате для хранения формы, вложил замусоленный конверт во внутренний карман нефедовского хабэ.
Нефедова провожали возле штаба всей ротой. Ребята поочередно обнимали его, прижимали к себе и шутливо советовали не выпить в Ташкенте всю водку и не изнасиловать всех женщин, чтобы и на их долю хоть что-то осталось.
Николай улыбался краешком губ и молчал.
Внезапно тесное кольцо солдат разомкнулось, и Нефедов увидел Чижова.
— Как? — спросил взводный. — Не болит? Ударил-то я сильно.
— Нет, — ответил Николай. — Да я и не помню…
— Зато я помню, — угрюмо сказал Чижов. — Ты не обижайся. Сам все прекрасно понимаешь.
— Понимаю, — опустил голову солдат, для которого великой загадкой оставалось заботливое и душевное отношение к нему окружающих.
Взводный сделал шаг к Нефедову и протянул руку. Все увидели на ладони тоненькую серебристую зажигалку.
— Бери, — сказал дружелюбно Чижов. — Хорошая зажигалочка. Пьезовская. Искра идет, хоть электростанцию подключай.
Николай отрицательно мотнул головой.
— Дурило, — улыбнулся взводный, — к твоим сапогам только такая и подойдет.
Все засмеялись.
— А мне подарите, — спросил Горюнов, — если у меня такие же сапоги будут к дембелю?
Чижов хмыкнул:
— Я тебя лучше курить отучу.
Теперь вместе со всеми, как в былые времена, смеялся и Нефедов.
— Бери, кому говорят, — вновь повернулся к нему взводный. — С коробком спичек не очень-то удобно поначалу. А тут — щелк, и готово.
Солдат не шевелился. Тогда старший лейтенант опустил зажигалку ему в карман и пожал на прощание руку.
— От чистого сердца дарю. Вернешь — обижусь. Давай, Коля, не поминай лихом!
Бронетранспортер от ворот контрольно-пропускного пункта пошел по дороге вниз. Тонкая белесая пыль задымилась под колесами машины.
Нефедов оглянулся. Возле раскрытых ворот стояли ребята и махали руками. Даже худой, высокий и слегка сутуловатый Чижов поднял, как испанский революционер, сжатый кулак вверх.
Николай сорвал с головы кепи и замахал в ответ. А потом, когда жирные клубы пыли отгородили солдата от друзей, он закрыл новенькой кепкой лицо… Он смахивал со щек слезы и не стеснялся ребят в бронежилетах и касках, которые сидели возле заднего верхнего люка и чересчур сосредоточенно смотрели вперед.
Столб пыли становился гуще и выше. Ветра не было, и маленькие частички земли еще долго висели в воздухе…
Разваренная пресная гречневая каша не лезла в горло, от баланды под кодовым названием «суп на м/б» — тошнило, ну а на перловку Гришин вообще смотреть не мог. Такая еда за полтора года службы осточертела, другой на оставшиеся полгода не предвиделось.
Рядовой Гришин заходился в злобе и тоске. В полукилометре от полка, за колючей проволокой и минными полями, раскинулась афганская бахча.
Солдат смотрел на огромное поле с четырехугольным шалашиком в центре и все гадал: как же ему дотянуться до бахчи? Близок локоть, да не укусишь. Гришин это прекрасно понимал. Как выйдешь, когда все вокруг охраняется? Да и страшно было. Не афганцев боялся солдат, а своих — офицеров. Заметят, накажут. Начхим точно свинцовыми кулаками грудную клетку вобьет в позвоночник. Короче говоря — сплошная безнадега.
Гришин смотрел на бахчу, затем вздыхал и плелся на пост, где на «зушке» — двуствольной спаренной зенитной установке — дежурил его друг.
Под маскировочной сетью сидели Гришин с земляком Ивантеевым, курили и разговаривали о наболевшем.
— Это херня какая-то, Серега, — жаловался Гришин товарищу. — Лето в разгаре. У духов арбузы, виноград, яблоки, дыни, груши — все, что душе угодно, а мы консервами давимся.
— Если бы консервами, — щурился от дыма Ивантеев. — Когда ты сгущенку видел? А в каше тушенка есть? То-то! Я сам чувствую — еще немного, и листья с деревьев жрать начну. Слышь, я читал где-то, что в одной семье было малое дитя. И, значит, подходит оно к стенке и начинает лизать известку. Родители били ребенка, а он все равно языком по стенкам водит. Короче, предки стали следить за ним, всячески отгоняли, малый чуть не умер.
— ???
— Не понял?
— Избили до смерти?
— Бестолочь! В организме у него этого, как его, тьфу ты, черт, — Ивантеев взъерошил волосы, задумался, а потом хлопнул себя ладонью по лбу. — Во, вспомнил, кальция не хватало. Организм требовал, поэтому дитя известку и лизало… Бабка старая родителям малыша мозги вправила, а то бы хана…
— А у меня витаминов не хватает, — загрустил Гришин. — Я тоже, наверное, скоро сковырнусь. Слушай, когда ты последний раз арбуз точил?
Ивантеев бухнул с размаху, не задумываясь:
— Неделю назад.
Гришин выпучил глаза и посмотрел на друга так, словно ему уже завтра на дембель.
— Врешь!!!
Ивантеев ногтем большого пальца зацепил за передний зуб, поддел его, словно пытался выломать, а потом этим же ногтем резко чиркнул по горлу.
— На козла, — коротко сказал он.
— Вот это да!
— Димка-водитель с командирского бэтээра угостил. Они только-только из города приехали. Арбуз в бэтээре жрали и мне кусок отрезали. Я Димке когда-то классную дембельскую запонку на галстук выточил. Вот он и вспомнил.
— Везучие они. Ездят кругом. Что хотят — продают, что хотят — покупают. А тут сидишь день-деньской за колючей проволокой и никуда не выйти. Угораздило меня в химики попасть. Ни боевых, ни выездов, ни черта нет. Окочурюсь я с такой житухи!
— Скорее ты на войне окочуришься от пули, — справедливо заметил Ивантеев. — Радуйся, что жив-здоров. Сколько полк на последней операции потерял людей? А наш призыв возьми. Жорка без ноги, Юрик Бахтин — слепой, Колька-Мерседес подорвался на фугасе. Вообще ничего от него не собрали. Дряни всякой напихали в цинковый гроб, запаяли и домой отправили. А что делать было? Я подсчитал как-то: из нас, нашего призыва, из ста шестидесяти трех человек девять убито, четырнадцать — калеки, сорок два ранены были. Я уже контуженых и всех тех, кто желтухами, тифами и прочей гадостью переболел, не считаю. Думаешь, инвалидом жить хорошо? Кому Юрик сейчас нужен? Он письмо прислал. Фиг разберешь. Буквы перекореженные — писал через какую-то картонку. Хреново, говорит, мужики. Блуждаю по дому, на углы натыкаюсь, никуда не выйти. С отчимом несколько раз дрался. Тот пьяный приходит — и на мать с кулаками. Юрик — защищать. Особо не помахаешься, когда ничего не видишь! — Ивантеев сплюнул. — Юрик просил Баклана к нему после дембеля заехать — помочь с отчимом разобраться. Но, говорит, я его, наверное, еще раньше прибью. Издевается он над Юриком, падла. Веревки в доме исподтишка вяжет, а Юрец через них падает. А ты говоришь! Я вот тоже на сопровождение колонн рвался. Лучше, думал, ездить, чем на одном месте сидеть. Время так быстрее летит. А как под Кабулом нашу колонну сожгли и мне ногу прострелили — никуда не хочу. Из госпиталя вышел — сюда посадили. Я сижу и не рыпаюсь. И ранение вроде не тяжелое, а ведь болит, собака. Иногда как схватит, так слезы из глаз. Не хочу, а они льются и льются, — Ивантеев скривился и закончил: — Так что, братан, сиди и не дергайся. Дома нахаваешься арбузов и ананасов…
Ознакомительная версия.