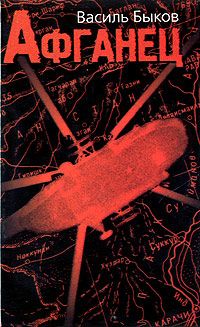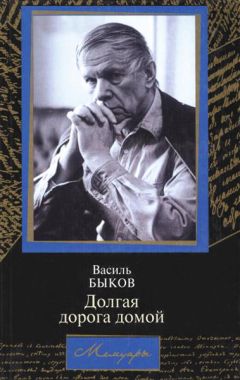Таких, как Линхард, полуграмотных солдафонов-выскочек в предвоенные годы появилась уйма в вермахте, где они стали главной опорой нацизма, так как были свободны от груза морали, образованности или хотя бы какой-либо минимальной культуры и молились только одному идолу — фюреру. И пускай бы себе молились, пожирая один одного, но для войны им этого стало мало, понадобилась пропасть людей иных сортов — запасников, коммерсантов, интеллигентов, которых они не воспринимали как солдат, а потому и как людей тоже. Хольцу еще повезло, он был только относительно подчинен этому Линхарду, поскольку как обер-ефрейтор санитарной службы имел некоторую независимость в батальоне. Во всяком случае, по подчиненности это далеко не настолько, как для любого командира штурмовой роты. Тем не менее, и ему доставалось от тупорылого саксонца, в прошлом мельника и кайзеровского фельдфебеля, который только при нацизме дотянулся до офицерского чина.
Возможно, два дня тому назад Хольц поступил не по-христиански и, наверное, нарушил присягу, но, посланный адъютантом Прошке вытащить с поля боя раненого гауптмана, он вдруг подумал: а если не тащить?.. Линхард лежал в канаве с распоротой, окровавленной брюшиной, жить ему оставалось немного. Бой был ужасающим, и Хольц еле дополз до гауптмана под адским огнем русских “максимов”, а тут еще ползти с ним обратно… К тому же, этот Линхард был с центнер весом и метра два ростом. И как было далеко не атлетического склада Хольцу волочь его два километра до торфяника? Двое тех, что попытались это сделать, лежали рядом, уткнувшись пробитыми головами в придорожную траву. Хольц торопливо перевязал рану тут же потерявшему сознание офицеру и, подождав, пока немного стихнет русский огонь, ползком двинулся по канаве назад. Он рассудил, что до вечера русские здесь пройти не дадут, а Линхард вскоре отдаст концы, не потребуется никуда его волочь.
Кое-как выбравшись из-под огня на батальонный КП, он бодро доложил адъютанту, что гауптман Линхард, к сожалению, мертв и эвакуировать его в тыл пока нецелесообразно. Каково же было удивление обер-ефрейтора, когда через пару часов фельдфебель Шнитке, этот рыжемордый мясник из Тюрингии, приволок живого еще гауптмана, и тот, прежде чем окочуриться, пожаловался на него, обер-ефрейтора Хольца, что тот нарочно не эвакуировал его из-под огня. Адъютант тотчас же приказал арестовать обер-ефрейтора, но пока в лихорадке боя искал для него конвоиров, Хольц не стал ждать. Сразу поняв, чем для него это кончится, он украдкой выбрался из КП на торфяник, нашел порядочную ямину с водой, под берегом которой и просидел до вечера, напряженно обдумывая свое положение, но так и не придумал ничего.
Батальон тем временем выбил русских с их обороны и стянулся на шоссе. Хольц тогда пробрался с торфяника в пустую русскую траншею и засел тут, не зная, что делать дальше. Вернуться в батальон он не мог, для батальона он стал уже дезертиром, пробираться в тыл было более чем опасно; видно, сдаться русским в плен — было единственным, хоть и далеко не самым для него лучшим исходом.
Но где те русские? И как добраться до них? В боевой полосе его в первую очередь схватят свои же, немцы, тогда будет позор, военно-полевой суд, может, даже расстрел. На вечное горе его мягкой ласковой матери. Об отце, довольно крутом по характеру человеке, он боялся даже подумать: у отца определенно будет сломана вся его университетская карьера с недавно заслуженным профессорским званием. Он уже знал о новой традиции наци: в подобных случаях жестко взыскивать не только с непосредственного виновника, но и со всей его родни. Как же об этом он не подумал раньше?.. Но разве он предполагал, что этот саксонский боров окажется таким живучим даже при своем смертельном ранении? Теперь ему черт знает что делать дальше.
Может, лучше застрелиться?
Но застрелиться он, наверное, успеет, парабеллум всегда под рукой, в твердой кожаной кобуре. Только что пользы от пистолета, когда здесь пустая разбитая траншея и нигде ни куска хлеба, ни сухаря, ни галеты. В траншее сплошь пустые стрелковые ячейки, села ж вокруг сожжены, жители их покинули, куда-то разошлись. Третий день он ничего не ел и отощал так, что не успевает подтягивать на животе отвисающий с пистолетом ремень. Да еще эта санитарная сумка с полевым комплектом медикаментов. Сумку он уже едва таскал на плече, все намеревался где-нибудь бросить, да почему-то не бросал, нечто останавливало его, будто знал, что она еще послужит. Теперь, подвинув ее на колено, Хольц неожиданно подумал: а что?.. А что если он заявится в тот блиндаж как медик и поможет русскому? Ведь если тот ранен, вряд ли ему обойтись без медицинской помощи, которой здесь ждать больше неоткуда. Русская женщина — конечно же, не врач.
Обер-ефрейтор поднялся и пошел по траншее назад. Удивительно, думал он, невзирая на зверский огонь немецкой артиллерии и минометов, убитых здесь немного, больше там, возле дороги, а на этом участке он не видел ни одного трупа. Или, возможно, русские забрали с собой убитых? Только вряд ли. Скорее всего, этот участок траншеи не был ими занят и служил в роли запасной или отсечной позиции. Ну да это, может, и к лучшему, Хольц не любил трупов — ни своих, ни русских. Еще когда учился на медицинском факультете, долго не мог привыкнуть к ним в анатомическом флигеле и обычно после занятий там до конца дня не мог съесть ничего, обходился кофе. Теперь, правда, это прошло, и — было бы что — съел бы рядом с любым трупом. А вот у русского как раз должно быть, должно же хоть что-нибудь остаться из того узелка.
Он снова тихо подкрался к последнему повороту траншеи, глянул на вход в блиндаж. Но в черноте норы-входа ничего не было видно, будто и не было никого. Не нарваться бы на пулю, подумал Хольц. А чтобы не нарваться, разумней всего было провести некие переговоры, и он, все еще стоя за поворотом, тихо кашлянул.
В блиндаже по-прежнему было тихо, никто оттуда не выглянул, но Хольц почувствовал, что его все ж услышали. Тогда он взял с бруствера мокрый ком земли и швырнул его ближе к входу.
— Кто? Серафима? — глухо донеслось из блиндажа.
Первое русское слово Хольц понял определенно, но не мог сообразить, что же означает второе, и снова тихо покашлял.
— Кто там? Не подходи! Стреляю! — совсем уж грозно раздалось в блиндаже, и Хольц немного удивился: ого, как свирепо!
— Их… Я нэмец, — сказал он.
— Прочь! Стреляю! — слышалось из блиндажа.
— Нихтс бояться, — как можно спокойней сказал Хольц. — Их… Я бояться. Я есть дезертир.
Неожиданно для себя он заволновался и перепутал личные местоимения, но, видно, русский его все же понял, ибо помолчал немного и снова крикнул:
— Бросай оружие! Не подходи!
Этот ответ немного смутил обер-ефрейтора: если бросать оружие, так ведь можно было б и подойти? Но этот командует не подходить. Тогда он решил переиначить разговор:
— Рус, я ест доктор. Медицина.
— Какой еще доктор?.. — звучно донеслось из блиндажа вместе со знакомым уже Хольцу русским матом, который, однако, дал обер-ефрейтору понять, что его слова произвели впечатление. И он решил тут же закрепить свой маленький успех.
— Их… Я немного перевязаль…
В блиндаже повисло молчание, угроз больше не было, и Хольц решился. Немного приподняв над плащ-палаткой руки, чтобы убедить, что он без оружия, он вышел из-за поворота. Но только он сделал первый шаг, как в блиндаже раздался крик и тотчас бахнул пистолетный выстрел. Пули он не услышал, однако шустренько отпрянул назад, за земляной вал.
— Рус-дурак. Обормот! — сказал он со злостью.
Тогда после недолгого молчания из блиндажа глухо послышалось:
— А закурить есть?
— Курить? Таб-ак? — удивился Хольц.
— Да, табак. Есть табак?
— Сигареты.
— Ну, давай, лезь, черт с тобой!
Хольц удивился, у него была в кармане начатая пачка дешевых сигарет, но он теперь не курил — голодный, он обычно терял к ним охоту.
На входе Хольц ожидал увидеть русского с направленным на него оружием, но не увидел никого. Тогда он опустил руки и, согнувшись, полез в нору.
— Рус, нихтс боялся. Их… Я дезертир, — тихо говорил он, уверенный, что будет услышан.
Здесь же в просторном пустом блиндаже он увидел русского, тот с забинтованной головой лежал в углу, и в его ослабевшей руке подрагивал направленный на вход пистолет.
— Нихтс пистоля! — мирно сказал Хольц, уже убедившись, что перед ним слепой. Грязная, неумело наложенная повязка сползла до кончика носа, из-под нее по защетиневшему подбородку стекали гнойные выделения, от которых вымазалась и взялась пятнами гимнастерка у ворота. — Майн гот! — сказал Хольц. — Это ест очень плехо. Будет перевязать.
— Дай закурить! — в первую очередь потребовал русский, не выпуская из руки пистолета.
Хольц нашел в кармане измятую пачку сигарет, вытянул одну и вложил в испачканные пальцы слепого. Затем достал из нагрудного кармана зажигалку, долго щелкал синим огоньком, пока та загорелась, и поднес русскому. Тот жадно затянулся, выпустил дым и улегся на шинель.