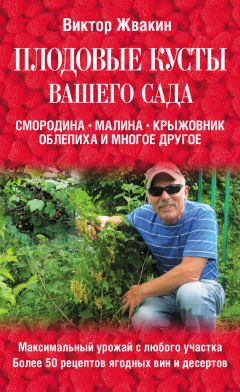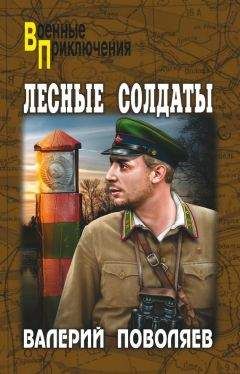Ознакомительная версия.
– Как ты тут?
– Живой, – глухо, словно бы из далекого далека, отозвался Федяев и потряс головой. Приборный щиток перед ним был испачкан кровью.
– Ты в приметы веришь, Федяев?
Вопрос был неожиданным, совсем не к месту, и у любого другого человека вызвал бы озноб, оторопь, удивление, если бы в кабине оказался кто-нибудь из десантников, то невольно б подумал: рехнулся Сарычев, но только не Федяев, он просипел сквозь зубы что-то невнятное, задавленное, потом произнес четко и чисто.
– Верю.
– Раз веришь, значит, до Кабула дотелепаем… – И Сарычев, с трудом преодолевая боль в посечённой щеке, улыбнулся.
Машина тянула еле-еле, дымила, хрипела, кашляла – видать, несколько пуль попали в мотор, и Сарычев, внешне спокойный, уверенный в себе и в своём вертолёте, а внутренне напряжённый, настороженный, до звона в висках стискивал зубы, сопротивлялся боли и слабости, молил неведомого бога, машину и самого себя, не давал ей клюнуть носом вниз, проскрести пузом по камням, обессилеть окончательно.
В каждом из нас живут два человека: один тот, которого мы знаем, он очень хорош, он ведом нам по поступкам, по движению дней, по жизни нашей, по всему, что с нами происходит, второй – неведомый, трезвый, критично ко всему настроенный, жёсткий, неуступчивый, помогающий держаться в трудную минуту. Именно этот второй Сарычев и тянул сейчас вертолёт.
По дороге Сарычева ещё один раз обстреляли из «дешека», но не достали – майор вёл вертолёт слишком низко, пулемётчики не могли бить себе под ноги, а потом их отвлек Новиков: вывернулся из прожаренной тени ущелья и с угрожающим грохотом пошёл на пулемётное гнездо. Пулемётчики бросились врассыпную, стремясь побыстрее забиться в щели и выбоины, на ходу теряя галоши и головные намотки, им показалось, что вертолёт ударит сейчас «нурсами». Но «нурсов» на машине Новикова не было, капитан брал душманов на испуг.
– Молодец, Новиков, молодец, Лёня, – немо зашевелил губами Сарычев, чувствуя, как боль и слабость наваливаются на него, подминают, стараются согнуть, сплющить в лепёшку, и, сопротивляясь, он замотал резко головой, вытряхивая из себя слабость и боль. Напрасно он это сделал – боль стала нетерпимой.
Чтобы уйти от боли, надо думать о чём-то постороннем либо, наоборот, о чем-то очень близком, вызывающем тепло и благодарное щемление: о доме, о родных, о жене, которой у Сарычева, увы, не было, ещё о чем-нибудь, о переулках детства, о школе и учителях, это отвлекает, уводит боль в сторону, и человеку обязательно делается легче.
Впереди, в длинном опасном разрезе ущелья засветилась задымленная глубокая розовина: там начиналось чистое пространство, зажатая горами спокойная долина, в которой находился Кабул. Тянуть осталось немного, совсем немного, но Сарычев чувствовал, что он доходит – стеклянная крошка посекла ему не только лицо, в его теле, похоже, сидели осколки. Вначале, в горячке полёта, он их не чувствовал – те вошли в тело безбольно, стремительно, ничем не дав о себе знать, хотя должны были дать, ибо металл не поражает без боли. Сарычев их не чувствовал, а сейчас чувствует, бок его намок, во рту сделалось кисло, в голове звон, во всех мышцах – слабость, словно бы в каждый порез, в каждую малую пробоину из него вытекала жизнь.
И бог знает, чувствовал ли ещё когда-нибудь Сарычев себя так, как чувствует сейчас, хуже, чем в эти минуты ему никогда не было.
Их обстреляли снова – в который уж раз! – в том месте, где огня вообще никогда не было, «дешека» негде ставить, и все-таки пулемёт там оказался. Вертолёт тряхнуло, он своим железным телом взял половину свинца, выпущенного в него, зачадил, засипел, сбиваясь в движении, чиркнул одной здоровой ногой по камням, подпрыгнул, потом чиркнул покалеченным колесом, затем снова прошёлся целым, взбил облако мелкой каменной крошки, и Сарычев, собрав последнее, что у него было, всю мочь, до крови зажав нижнюю губу зубами, приподнял вертолёт над землёй.
– Федяев, помоги! – просипел он.
Но Федяев не двигался. Кровь на его лице запеклась, сделалась чёрной, под цвет янычарских бровей.
Небо задрожало, покраснело над Сарычевым, в густой кровяной красноте его образовались тёмные пятна – дыры, что-то в этих дырах копошилось, двигалось, перемещалось с места на место, а что именно, не поймешь. Сарычев тряхнул головой: сгинь, нечисть, но нечисть не исчезала, и он невольно застонал. От бессилия, от того, что остался без помощи, один на один с машиной, даже бортмеханика нет рядом – тот сейчас явно с ракетницей в руках, как Федяев сорок минут назад, караулит горы, оберегает подбитый вертолёт от «стрелок».
«Лишь бы не потерять сознание, лишь бы не потерять сознание, – забилось в голове тревожное, вызывающее ожоги и немоту, от которой отсыхали пальцы, плохо слушались руки и ноги, глотку ошпаривало чем-то горьким, похожим на раздавленную желчь, и Сарычев вновь протестующее тряхнул головой. – Лишь бы не сдох движок… Сдохнет – тогда и я тогда сдохну!»
Качалась перед ним земля, качалось небо, вместе с землей и небом раскачивался вертолёт, мотался, тряся тяжёлой головой из стороны в сторону, Федяев, раскачивались люди, находящиеся в трюме. «Только бы не сдох движок… только бы не потерять сознание, только бы…» Кровью намок бок, силы окончательно истаяли, Сарычев сдавал, всё кружилось перед ним, вертелось в хороводе, но всё же он сопротивлялся, спасая ребят-десантников, раненого Федяева, машину, самого себя, хотя на себя ему было наплевать, он тянул и тянул вертолёт в Кабул.
Сарычев дошёл до Кабула, в густом красном мареве почти вслепую нащупал пыльный пятак площадки и, взбив винтами плотное высокое облако, опустил на него вертолёт.
Почувствовав, что напряжение рукояти шаг-газа ослабло, вырубил двигатель.
Наступила тишина, полая, сухая, в которой не было ни одного звука, ничего не было слышно, кроме звона в висках да надсаженного, хриплого стука покалеченного двигателя, продолжавшего раздаваться в голове. Сарычев попробовал оторвать руки от шаг-газа и не смог – они были тяжёлыми, страшно тяжёлыми, словно бы отлитыми из чугуна и плотно припаялись к головке шаг-газа. Сарычев напрягся, краснота перед его глазами сделалась ещё гуще и ярче, в густой красноте этой заполыхало что-то ещё более красное и более яркое, нестерпимое, ударившее по глазам. Сарычев застонал и повалился набок, попытался ухватиться за брезентовый ремень, привинченный к узкому проёму кабины, попытался удержаться, но не удержался и грохнулся на пол, не ощущая уже ничего – ни боли, ни слабости, не видя ничего – ни недоброй густой красноты, плавающей перед ним, ни слепящих зарниц, вспыхивающих в этой бездне.
Больше месяца пролежал он в госпитале и снова вернулся в часть. Вместе с ним вернулся и Федяев – исхудавший, с ярким женским взором и жгуче-чёрными, издали видными бровями. Федяева так же, как и Сарычева, посекли осколки, он потерял много крови. Ещё в вертолете были ранены двое десантников и один убит. Остальные остались живы.
– Ну и счастливчик же ты, Сарычев! – сказал майору замполит полка, когда тот переступил ворота небольшого лётного городка, сработанного из дощаников и палаток, и поздоровался с часовым, знавшим его в лицо. – Ох, и счастливчи-ик… – Замполит восхищённо покрутил головой. Был он моложе Сарычева и сохранил в себе непостоянство, школярскую задиристость и, что называется, несолидность, хотя звание имел такое же, как и Сарычев, – майор.
– Почему счастливчик? – Сарычев недовольно приподнял плечи, привычно бросил взгляд на недалёкий хребет, отделяющий Кабул от Баграма, – сглаженно оплавленный, задымлённый, такой близкий и домашний, но только до тех пор близкий и домашний, пока не полетаешь над ним и не попадёшь под огонь какой-нибудь душманской группы, которые тянутся в Кабул. Интересно, почему он ощущает в себе недовольство, вроде бы причин нет, а всё-таки внутри застойный клубок собрался, холодно там и туманно. Может, он что-нибудь предчувствует, а? – Почему? – повторил он вопрос.
Замполит оборвал свой смех, сделался серьёзным, озабоченным, около губ образовались складки, придавшие его лицу неожиданно горькое выражение.
– Ты же на одной лопасти в Кабул пришёл, разве не знаешь?
– Нет.
– Две лопасти были пробиты, одна крупной пулей… – Замполит приподнял правую руку, сжал большой и указательный пальцы в кольцо. – Вот такая дырка. Нет, не такая, больше! – Он развёл пальцы пошире. – С хороший грейпфрут, а вторая лопасть вообще на нитке держалась, её из гранатомёта просекли.
Сарычев невольно прищурил глаза: даже представить себе невозможно, что будет, если в полёте сорвётся одна перешибленная лопасть, просто мокрое место останется, рваные куски металла, перепачканные кровью. Выходит, он действительно из породы счастливых и все худые приметы на него не действуют.
– Что молчишь, Сарычев? – спросил замполит.
– Думаю.
– О том, будет новая мировая война или нет?
Ознакомительная версия.