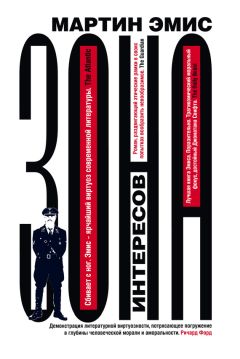Ознакомительная версия.
– Нет, не удастся. – Она огляделась вокруг. – От того времени ничего и не осталось, не правда ли? Даже зданий или статуй.
Я достал из кармана пачку «Лаки Страйк», мы взяли по сигарете, пламя моей зажигалки стояло ровно (ни ветерка, тишь).
– Мм, пожалуй, я знаю, почему мое… появление сделало вас несчастной.
– Послушайте, я не хочу быть придирчивой, но с чего вы взяли, что я не была несчастной и до того? Я как была несчастна, так и осталась. Несчастна и сейчас.
Принято и это. Она продолжала:
– Вы не думайте, дело не в вас. Я давно живу в страхе увидеть кого-нибудь, все равно кого, из тех времен. Думаю, я даже встречи с Гумилией не перенесла бы. У которой, кстати, все хорошо.
В тоне Ханны никакой театральности не ощущалось – он был прямым и ровным, как и ее взгляд. Густые темно-каштановые волосы остались прежними, широкий рот остался прежним, прежней осталась и мужская квадратность нижней челюсти. Только по сторонам от носа появились вертикальные складки – вот и все изменения.
– Так или иначе, к трем часам мне необходимо быть в Мюнхене. В полдень я вас покину.
– Если это невротичность или попросту слабость, значит, я слаба. Пережитое оказалось мне не по силам. Я не сумела справиться с ним.
Я продолжал сочувственно двигать бровями, понимая, однако, что все мое существо – не только сердце – сопротивляется тому, что я слышу, отвергает его. Но молчал.
– Я все время представляю себе, что увижу Долля, ничего не могу с этим поделать. Увижу и умру. – Она задрожала, сжалась и сказала: – Если он прикоснется ко мне, я точно умру.
– Он не может к вам прикоснуться.
Долгое молчание. Долгих молчаний в том разговоре было немало. Св. Каспар укоризненно отзвонил четверть часа.
– Давайте поговорим немного о чем-то более приятном. Расскажите о вашей работе. А я тем временем успокоюсь.
– Ну, настоящей сменой темы это назвать нельзя, – сказал я. Впрочем, мне тоже хотелось поговорить немного о чем-то более приятном, и я рассказал ей о моей работе. О восьми миллионах заполненных вопросников, о пяти разрядах классификации – от «неповинен» до «повинен в серьезном преступлении».
– Этот пятый пункт. К нему и отнесли моего покойного мужа.
– Простите. Да. – Я замялся. – Но позвольте рассказать вам о том, что волнует меня по-настоящему.
Моя внеурочная работа мало имела отношения к «правосудию победителей» (можно подумать, что после войны было какое-то другое), она была связана с «возмещением ущерба», или со схемами репараций. В данном случае – с компенсациями за убитых родственников, за годы рабского труда и страха, за принуждение к физической и умственной немощности (и за отъем всех средств и всего имущества). То было правосудие жертв. Мой друг Дэвид Мерлин, еврей-адвокат и капитан армии США (один из самых блестящих и более всего поносимых денацификаторов), привлек меня к этой работе год назад, и она сразу показалась мне более чем потребной, но и более чем фантасмагорической: кто бы в то время мог представить себе Германию не только суверенную и платежеспособную, но еще и просящую прощения? А между тем все в ней изменилось. Новая реальность – возникновение в мае этого года государства Израиль – походила на инъекцию или оплодотворение, и Мерлин уже собрался отправиться в Тель-Авив с ознакомительной миссией.
Ханна сказала:
– Это лучшее дело, какое вы могли для себя найти. Бог вам в помощь.
– Спасибо. Спасибо. Та к или иначе, дни мои, как видите, заполнены. По крайней мере, у меня есть чем заняться.
– А у меня нет.
Она сказала, что занимается главным образом родителями – ногами матери, сердцем отца.
– Ну и пять часов в неделю учу разговорный французский. Учиться писать по-французски я не могу из-за моих неладов с орфографией. Дислексия, как вам известно. В сущности, главное мое дело – воспитание девочек.
Которые в этот миг – как раз отзвонило полчаса – и появились на дальнем краю пруда. Они постояли немного. Ясно было, что им велено было прийти посмотреть, как себя чувствует их мать. Ханна помахала им рукой, они помахали ей – и удалились.
– Вы им нравитесь.
Я с трудом сглотнул и сказал:
– Что же, очень рад, потому что и они мне нравятся, всегда нравились. Разве не мило, что Полетт может теперь смотреть на Сибил сверху вниз? Раз так, я стану другом вашей семьи. Буду приезжать сюда время от времени поездом и угощать вас всех ланчем.
– Простите, что я неотрывно смотрю на этого лебедя. Терпеть его не могу. Видите? Шея-то у него чистая, но посмотрите на перья. Они серы от грязи.
– Как польский снег. – Поначалу белый, потом серый, потом бурый. – Когда вы оттуда уехали?
Она ответила:
– Думаю, одновременно с вами. В тот день, когда они отправили вас. Первого мая.
– Почему так скоро?
– Это из-за предыдущей ночи. Вальпургиевой. – Она повеселела, всего на миг. – Вы что-нибудь знаете о Вальпургиевой ночи – помимо вещей очевидных?
– Продолжайте, я слушаю.
– Девочек она тогда очень разволновала. Не только фейерверком, костром и печеной картошкой. У них была книга, посредством которой они нагоняли на себя страх – и с превеликим удовольствием. Вальпургиева ночь – это время, когда можно пересечь границу, отделяющую зримый мир от незримого. Мир света от мира тьмы. Им это нравилось. Можно мне еще сигарету?
– Конечно… Мой друг, мой покойный друг, сказал, что Третий Рейх был одной долгой Вальпургиевой ночью. Он то же говорил о границе, но о границе между жизнью и смертью, о том, что она, похоже, исчезла. Тридцатое апреля. Ведь, кажется, в эту самую ночь странная тварь с Вильгельмштрассе положила конец своим страданиям?
– Правда? Ну, это еще и день моего рождения. Промежду прочим. – А следом она полным решимости тоном произнесла: – Хочу спросить у вас, поскольку не уверена, что правильно все понимаю. Посмотрите на лебедя, он действительно обозлен?
Лебедь – разгневанный какой-то обидой вопросительный знак из шеи и клюва, пристальный взгляд черных глаз. Испытывая некоторую неловкость, я сказал:
– О да. Что касается Вальпургиевой ночи, есть одно место – в «Фаусте», если не ошибаюсь: «По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят»[120].
– Это хорошо. – И Ханна, возведя брови, продолжила: – Он попросил меня выйти в сад. Полюбоваться фейерверком. Сказал, что Шмуль… сказал, что Шмуль хочет подарить мне что-то на день рожденья. А теперь попробуйте представить себе, что вы там.
Их было трое в густевших сумерках. За садом – внизу под склоном – сверкала Вальпургиева ночь и, возможно, свистела, взлетая, ракета. Остатки заката, первые звезды. Зондеркоманденфюрер Шмуль стоял по другую сторону садовой ограды. В полосатой одежде. Вся обстановка, сказала Ханна, не походила ни на одну из тех, какие она когда-либо знала, о каких читала или слышала. Заключенный, который выглядел пьяным, вытянул из рукава длинный инструмент или оружие, что-то вроде пики с узкой поперечиной. Все было неопределенным, все казалось притворством.
Долль пинком распахнул калитку, сказал: «Ну, входи уж…»
Шмуль остался стоять на месте. Он рванул рубашку, приложил острие к груди. (Ханна, сказав это, вытянула перед собой сцепленные руки.) Шмуль посмотрел ей в глаза и произнес: «Eigentlich wolte er dass ich Ihnen das antun».
А Долль ответил: «Ну и какой от тебя тогда прок?»
И выстрелил ему в лицо. Поднял пистолет и выстрелил ему в лицо. Потом присел и выстрелил еще раз, в затылок.
Когда содрогания Шмуля затихли, Долль, не встав с корточек, медленно повернулся и поднял на нее взгляд.
Eigentlich wolte er dass ich Ihnen das antun. «На самом деле он хотел, чтобы я сделал это с вами».
– Говоря это, Шмуль смотрел мне в глаза. Я встречала его почти каждый день, и он никогда так не делал. Не смотрел в глаза. – Секунду-другую Ханна удивленно вглядывалась в сигарету, которую держала в пальцах, потом затянулась и бросила ее на землю. – Долль был весь в крови. Господи, что способна сделать пуля… И все пытался улыбнуться. А я вдруг поняла, кем он был все то время. Вот он, кошмарный маленький мальчишка. Пойманный за совершением какой-то явственной пакости. И все пытающийся улыбнуться.
– Так вы…
– О, я сразу забрала девочек и отвела их к Ромгильде Зидиг. Мы уехали при первой же возможности. – Она прижала ладонь к груди, прямо под горлом. – Ведь я же знала, что он такое. Ну-с, герр Томсен, дипломированный юрист, какие выводы вы можете сделать из этой истории?
Я развел руки:
– У вас было пять лет, чтобы все обдумать. Наверняка вы их уже сделали.
– Мм. Ну что же, в конечном счете хуже всего было то, что он не позволил Шмулю принять смерть от собственной руки. Вместо этого он его изуродовал. Знаете, встречая Шмуля на тропинке, я желала ему доброго утра. И чем бы он там ни занимался, тяги к насилию в нем не было… Я ведь права, верно? Выходит, Долль, не знаю, как-то склонил его нанести мне увечье, а то и убить.
Ознакомительная версия.