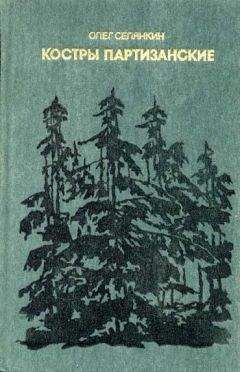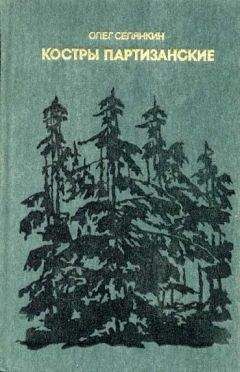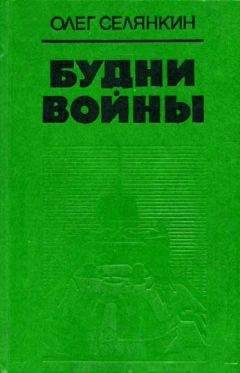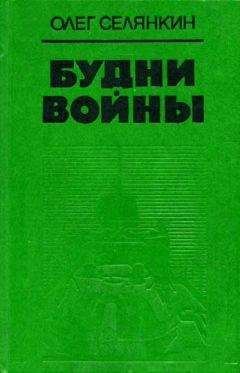Поковыряться в душе Капустинского надеялся во время его визита за малинкой сушеной. Не пришел Капустинский. Разумеется, самое верное и милое дело через денек самому к нему нагрянуть: «Как здоровье супруги? Думаю, не пришел, значит, хуже ей стало, вот и осмелился сам наведаться». Не воспользовался этим случаем исключительно из-за того, что не знал, чья сила под Москвой верх берет. А раз не знал, то зачем лишнего врага наживать, когда кругом и без того горечь одна?
Жизнь, она такая тонкая и хрупкая, что не семь, а сто раз отмерь, если резать собираешься.
Сегодня уже ясно, что советские выдыхаются, вот-вот прекратят свое наступление, и тогда начнется стояние фронтов, как в первую мировую войну. С той разницей, что теперь на фашистов вся Европа каторжно работает, значит, вермахт поднакопит силушку, залижет раны да как двинет весной на восток!
Во всех хатах Слепышей люди уже ко сну готовились, когда Горивода поскоблил ногтем темное окно дома, где жил Виктор. Умышленно так поздно заявился: днем, сославшись на неотложные дела, еще и удерет Капустинский, а теперь никуда не денется.
И еще одно, тоже тайное: не осмелится он ночью выпроводить гостя, который с помощью к нему пришел. Не осмелиться — придется ночлег предложить. Значит, для беседы времени предостаточно будет.
Дверь открыл Капустинский. Будто бы не удивился позднему визиту, радушно поздоровался, пригласил в горницу:
— Извините, в кухне у нас родичи жены живут.
Действительно, в кухне, прямо на полу, прикрыв его каким-то тряпьем, лежали женщина и трое детей.
«Спят или только притворяются?» — зло подумал Горивода и заворковал:
— Избави бог, не беспокойтесь, я только малинку занес.
— Гостям всегда рады, а таким, как вы, Мефодий Кириллович, и подавно, — ответил Виктор, вежливо подталкивая гостя к дверям горницы.
Горивода вошел в горницу, потупив глаза, будто бы от смущения за свой поздний визит, а сам заметил и наскоро прикрытую одеялом кровать, и две смятых подушки на ней, и винтовку в ее изголовье; она, винтовка, заставила уважительно подумать о Капустинском: молодой, но момент правильно понимает, жизнь задарма отдавать не собирается.
Благоприятное впечатление произвела и молодуха. Не в пример другим, она молча поклонилась гостю и выскользнула из горницы, погладив мужа влюбленными глазами.
— Поправилась, значит, ну и слава богу, — закивал Горивода и еще раз, теперь уже неторопливо, прошелся глазами по горнице.
Кроме кровати, здесь стояли два стула с прямыми резными спинками и древний комод.
— Раздевайтесь, Мефодий Кириллович, раздевайтесь, гостям мы всегда рады, — подлаживаясь под тон Гориводы, приглашал Виктор.
— Гость — от бога! — выспренно изрек Горивода и положил на пол в углу и полушубок, и шапку с шарфом, напоминающим обрезь половика: такой непритязательной расцветки был шарф, такой грубой работы.
— Обижайтесь или нет, Мефодий Кириллович, но я атеистом воспитан. Однако двумя руками голосую за это изречение, — ответил Виктор, не пряча глаз от пронзительного прищура гостя.
Наконец прищур потух. Горивода залез рукой во внутренний карман поношенного пиджака, извлек оттуда тощий мешочек-кисет:
— Вот она, малинка, пользуйтесь.
Противно Виктору разговаривать с лесником, озноб бьет, как посмотрит на его лапищи, на шею, растекающую в покатые плечи, но он находит в себе еще и силы улыбаться доброжелательно. Втайне же мечтает о помощи, хотя знает, что никто из товарищей случайно не зайдет к нему ночью. Он мучительно ищет лазейку, и вдруг в кухне хлопает дверь, гремит голос Василия Ивановича:
— Эй, пан Капустинский! Или я за тебя сегодня ночью патрулировать буду?
Распахнув дверь в горницу, Василий Иванович видит Гориводу, раскрывает объятия. Тот так же охотно подается ему навстречу, но в глазах — настороженность.
А Василий Иванович распоряжается:
— Афоня! Одна нога здесь, другая там, а выпивка и закусон у меня на столе! — И сразу Виктору: — А тебе так скажу: молод еще за моей спиной шашни заводить! И шейка у тебя тонкая, не ровен час… Заманил к себе такого гостя и помалкиваешь?
Весело, с прибаутками вошли в половину дома, где жил Василий Иванович, и сразу же гость с хозяином остались одни. На столе маячило несколько бутылок самогона, и все же, даже за выпивкой, разговор то судорожно вспыхивал, как костер, на который плеснули бензина, то безнадежно затухал: обсуждать распоряжения начальства оба избегали, а о чем же тогда говорить, если почти не знакомы?
А Виктор с Афоней в это время стояли на крыльце, ждали, не потребуется ли Василию Ивановичу их помощь. Виктор уже знал, что это Клава, выбежавшая будто бы за самогоном, известила товарищей о непрошеном госте. И сейчас, ловя каждый звук морозной ночи, Виктор думал о том, что такая, как Клава, никогда не бросит в беде своего друга.
Наконец Горивода заспешил домой.
— Не обижайте, Мефодий Кириллович, не позорьте перед соседями, — притворно умолял его Василий Иванович.
Горивода долго стоял на своем и вдруг попросил, уже одевшись:
— Вот если у кого-то из рядовых полицейских ночевать устроите, не откажусь. Здоровьишко-то аховое, как обратную дорогу осилю — не ведаю. Ну, к Мухортову хотя бы…
«Ври больше, ври. Еще сотню километров ножками отмеришь, и лишь тогда на твоем лбу испарина, может быть, выступит», — подумал Василий Иванович, но гнул свою линию крайне обиженного хозяина:
— Что люди обо мне говорить станут, если гостя в ночь отпущу?
— А тебе будто не все равно? — неожиданно разозлился Горивода. — Им никогда не угодишь! Серебром осыплешь — золото подавай!.. Или боишься, что полицейский наплетет на тебя?
— Скажешь тоже! — Василий Иванович прикинулся обиженным, быстро оделся, взял винтовку.
— Пошаливают?
— По привычке беру.
Теперь, «обиженный», Василий Иванович имел право бросать лишь самые необходимые слова. Поэтому, будто поссорившись, шли молча до дома Авдотьи. Здесь, заметив, что Василий Иванович намерен остановиться, Горивода сказал как только мог ласково:
— Не держи обиды на сердце.
Василий Иванович еще решал, сменить ли гнев на милость, а Аркашка уже услышал человеческие голоса у крыльца, лязгает в сенках затвором винтовки и орет:
— Кто там? Как пальну!
Едва лязгнул затвор невидимой винтовки, Горивода метнулся к стене дома, будто прилепился к ней спиной. Оттуда и прошипел злобно:
— Трус запросто и своего ухлопать может.
— А ну, выйди, — приказал Василий Иванович, не повышая голоса.
Немедленно, одновременно недоверчиво и обрадованно, прозвучал голос Аркашки:
— Это вы, господин старшой?
— Кому же, как не мне, ходить по ночам?
И все же Аркашка не распахнул, а лишь приоткрыл дверь, в щель осмотрел пришельцев и только тогда выскочил на крыльцо, затараторил:
— Я вас сразу узнал, господин старшой, для порядка кричал, как вы того требуете!
«Продаст или нет?» — какой уже раз подумал Василий Иванович, но отступать было поздно, и сказал, будто ничего не боялся:
— Пан Горивода у тебя заночует. — И добавил после небольшого раздумья. — Сам начальник полиции пан Свитальский с ним запросто.
Добавил для того, чтобы насторожить Аркашку, поукоротить его язык.
Аркашка, который искренне верил в свои многочисленные грехи, намек схватил на лету.
Убогость жилища, куча ребятни, глазевшей с полатей, и Авдотья, будто пришибленная, с потухшим взглядом и плоская, как доска, окончательно убедили Гориводу в том, что Аркашка Мухортов принадлежит к категории вечных неудачников. Такого хоть золотом одари, он все равно с голоду подохнет. Правда, едва гость уселся в переднем углу, женщина слетала куда-то и бесшумно поставила, будто швырнула, на стол четыре бутылки самогона. Ни в одном движении, ни в одном взгляде ее не улавливалось ничего похожего на самое обыкновенное радушие.
Горивода был недоволен и хозяином, и хозяйкой дома, где ему предстояло ночевать. Не знал он, не мог знать, что сдержанность Аркашки — умышленная, от предупреждения Василия Ивановича. Если бы не тот намек на близость Гориводы к Свитальскому, если бы не боязнь ответственности за свои промашки, он многое бы выложил гостю. Все, что было и могло быть. А сейчас только поддакивал и расхваливал своего старшого и порядки, установленные им.
Молчание и сухость Авдотьи шли от неприязни к тем, кто сидел за столом. Еще до публичной порки она для Аркашки была готова стать преданной рабой, видела в нем обломочек своего счастья, наконец-то дарованного жестокой судьбой.
Авдотье едва исполнилось шестнадцать, когда на покосе ею овладел Никита — разъединственный на Слепыши выпивоха. Ему уже перевалило за сорок, когда случилась эта беда с Авдотьей. Как говорится, и в годах он был, и ни лицом, ни хозяйством в женихи не напрашивался, но она вышла за него, чтобы за церковным браком скрыть позор.