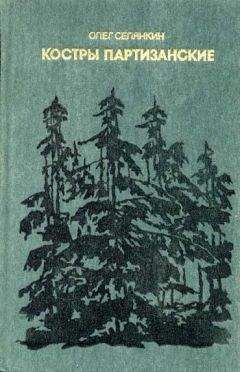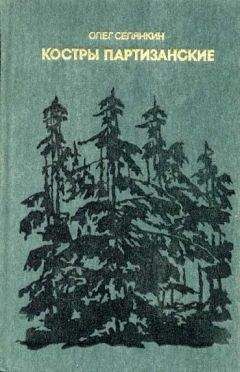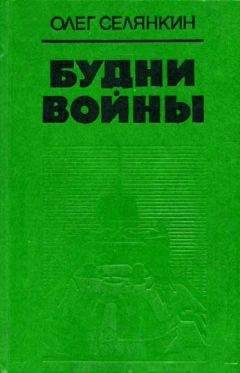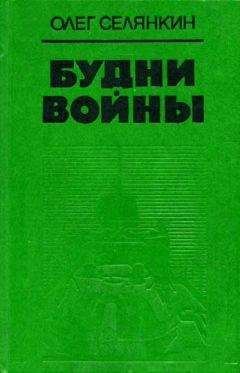Двенадцать лет промаялась с мужем-пьяницей, не раз терпела от него побои и все же родила ему трех сынов. Могла бы и больше, да сгорел от вина Никита.
Похоронила, даже голосила на его могиле. Почему голосила, если ни света, ни радости с ним не видела? Так полагается. Да и себя жалела: тридцати не исполнилось, а с тела спала, усохла вся.
Потом по-своему пыталась найти свое бабье счастье. Не нашла, только двух девчонок еще родила. И вдруг постучался в дом Аркашка — изголодавшийся, потерянный, разнесчастный. Пустила переночевать. Жалеючи, и вымыла в корыте, жалеючи, и не выпроводила ни завтра, ни через несколько дней. А потом как-то само случилось, что заметила его обходительность, стремление хоть чем-то быть полезным. Тогда и закралась мыслишка: а не долгожданное ли счастье заглянуло? И стоило ему несмело потянуться к ней, раскрылась полностью, доверчиво и радостно.
Около месяца с тревогой ждала, не изменится ли что в его отношении к ней. Не менялось. Тогда еще больше уверовала в свое счастье: не бил, не поносил всяческими непотребными словами. Что еще надо? Она верила, что со временем окрепнет это неожиданное счастье, наберет силу, вот и угождала Аркашке, в глаза заглядывала. Однажды даже щеки свои соком свеклы натерла!
Прозрение нагрянуло сразу, на другой день после порки. Болело тело, но еще больше — душа. И Авдотья, стыдясь выйти из дома, тихонько копошилась в кухне, ежась под испуганными и недоумевающими взглядами своих детей. Переставляла чугуны и чугунки, а сама непрестанно думала о позоре, обрушившемся на нее, спрашивала у бога, за что ей такая кара жестокая, за что?
Переживала, казнилась, а тут еще и Петька, которого считала первым своим заступником и самой надежной опорой, ударил словами, будто ножом в сердце:
— Он-то стоял и похохатывал.
Она, чтобы заглушить крик души, сунула голову в чело печи, загрохотала ухватом по камням пода, ловя несуществующий чугунок.
— А старший полицай, когда тебя к лавке поволокли, до самого коменданта пробился, в заступу пошел, — продолжал без ножа резать Петька.
Авдотья опять видит себя распластанной на скамье, опять слышит злобный, прерывистый свист плети. И невольно вспоминается, что он, Аркашка, ни разу ее пальцем не тронул, но и слова доброго не сказал; если и берег, то как вещь, которая сгодится в хозяйстве.
Слова Петра заставили ее иначе взглянуть на все, связанное с «ним» (теперь и она, как Петька, мысленно называла Аркашку только «он»). А взглянула на Аркашку внимательно, поняла, что не из сострадания, не оберегая ее запоздалое счастье, все бабы сторонятся его, почувствовала — есть в Аркашке что-то отталкивающее, отпугивающее людей. Авдотья не смогла бы словами выразить, что именно, но, обнаружив это один раз, теперь чувствовала повседневно, ежечасно.
Потом исчез Петька. Захотелось взвыть в голос, уже метнулась было за помощью к деду Евдокиму, да Витька-полицай перехватил в проулке и сказал, чтобы не паниковала:
— Петро уехал погостить к хорошим людям. Может, до весны. Или более… Только не болтай об этом. Как бы не отыгрался твой приемыш на Петре. Уж больно разобиделся за упрек, что он, Аркашка, не заступился за тебя.
Теперь и вовсе стал ненавистен «он», но терпела исключительно из-за страха за детей. Поэтому и сегодня покорно прислуживала, хотя — будь ее сипа — мигом вымела бы их из хаты. Была все время рядом и невольно слышала, как пришелец расспрашивал о делах в деревне, о всех полицейских, как увиливал «он» от прямых ответов или расхваливал все — дальше некуда.
Наконец мордастый сказал:
— Похабно живешь, без масштаба соответствующего.
— Как понимать прикажете?
— В развалюхе обитаешь, баба у тебя… Да еще ребятни куча… Человек за себя настоящую цену запрашивать должен.
Не шепотом, во весь голос говорили. А ведь она, Авдотья, тут, рядышком.
Замерло сердце в ожидании его ответа: может, хоть слово в защиту скажет?
Он ответил:
— Нет, господин хороший, у Аркашки Мухортова прицел верный и дальний. Меня сам господин комендант знает, презентовал даже!.. А что здесь пока обитаю… В школе учили: дескать, прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками. А в жизни умные по прямой не ходят, они свою тропочку пробивают, порой отсиживаются в глухой дыре… И у каждого тропка обязательно только собственная, единственная. Так, позвольте спросить, откуда вам знать, с масштабом или без оного я живу?
Это были первые за весь вечер слова Аркашки, за которыми промелькнуло его собственное лицо, и Горивода уже с интересом глянул на собеседника, заметил, что тот нисколечко не пьян и глаза у него настороженные, злые.
«Хитер подлюга!» — обрадовался Горивода, еще раз глянул, чтобы убедиться, правильно ли разгадал человека, но теперь с ним сидел опять только угодливый, пришибленный жизнью человечишка.
«Из подлюг подлюга!» — восхитился Горивода и тут же подумал, что такому палец ко рту не подноси. Видать, много знает, только вот как его разговорить?.. Может, старуха мешает?
И он круто повернул разговор:
— У меня вся жизнь в лесу, елки-палки вокруг, с ними, известно, даже словом не перебросишься. А я ведь еще не старик.
«Курятинки захотелось!» — со злорадством подумал Аркашка и тут же мысленно перебрал всех женщин Слепышей, отыскивая ту, которая приняла бы гостя на ночь. Не нашел. Вот разве только Нюська. Правда, у нее за стеной старшой живет… А к кому еще вести, кроме нее?
Выбрал, но ничего не сказал, решил подождать, чтобы Горивода еще раз и прямее высказал просьбу.
Тот не заставил себя долго ждать:
— Так есть что подходящее, друг Аркаша, или нет?
— Этого добра хватает… Правда, все стоящие в Степанково к немцам бегают. По расписанию, день в день, час в час. — И хохотнул то ли завистливо, то ли презрительно.
— Что бегают, даже хорошо, здоровые, значит, — оживился Горивода. — Проводишь или из подворотни домик укажешь?
Намек на трусость разозлил Аркашку, он отбросил колебания и, мигом собравшись, увел гостя из дома, прямо к Нюське с ним направился.
Авдотья некоторое время еще находилась во власти оцепенения, сковавшего ее после откровенного ответа Аркашки, потом, набросив шубенку и укутавшись в шаль, выскочила на улицу и сразу же остановилась, будто налетела на преграду. К кому идти? К деду Евдокиму? К соседям?
Можно бы и к ним, но еще подумают, что бабья обида, ревность дикая подстегивают ее. Так подумают — засмеют. Если мужик к другой бабе бегает, кто поможет, как не сама себе?
Постояв и разобравшись в мыслях, Авдотья заторопилась к Витьке-полицаю, с отчаянностью человека, которому терять нечего, забарабанила в оконную раму так, что задребезжало, зазвякало оконное стекло.
Клава немедленно приподняла уголок занавески:
— Кто там?
— Я, Авдотья… Мне поговорить с твоим надо.
И вот Авдотья в горнице, стоит у порога и молчит; она только сейчас поняла, в какое глупое и двойственное положение поставила себя: как встретит Клава ее слова, вцепится ли ей, Авдотье, в волосы, когда узнает, с какой целью она прибежала? Ведь всей деревне известно, что Витька-полицай согрешил с Нюськой…
Боязно и стыдно было Авдотье начать разговор, и еще недели две назад она скорее всего неловко соврала бы: дескать, дай огонька, или что другое придумала, но теперь какая-то неведомая сила заставляла говорить только правду. Поэтому Авдотья начала с того, в чем чувствовала главную опасность:
— Он-то говорит, по прямой умные не ходят, они все вокруг, в обход, чтобы вернее своего достичь. Мордастый поддакнул, похвалил, значит… И еще Аркашка бахвалился, что сам комендант с ним запросто. Теперь оба к Нюське догуливать отправились…
Ни разу Клава не напомнила Виктору о том, что сама не забывала, казалось, ни на час. Правда, Виктор ей рассказал, как пьяный приперся к Нюське черт знает почему и зачем, клятвенно уверял, что между ним и Нюськой ничего не было. Она верила каждому его слову и в то же время сомневалась. Однако всячески подавляла в себе это недоверие. И вдруг явилась Авдотья доложить Виктору, что те к Нюське направились!..
Ну и что из того?
Почему именно к нему, к ее Вите, прибежала Авдотья с этим известием?
Клава вдруг почувствовала, что ноги слабеют в коленях, и, чтобы не выдать своего состояния, присела на краешек кровати, сдвинула брови и уставилась на свои пальцы, непривычно вытянутые и неподвижные. Она хотела уже крикнуть: «А ему что за дело?» — и тут вспомнила жалобу Нюськи, которую пересказал ей Виктор: «И нагрянут, и надругаются… Кому пожалуешься, кто вступится?..»
— Хорошо, Авдотья, ты иди… Я сделаю что нужно, — сказала Клава и решительно поднялась, потянулась за шалью.
5
Фон Зигель никогда не кричал на подчиненных. Он только смотрел на них так, что виноватый понимал: завтра или послезавтра придется с маршевой ротой ехать туда, откуда поезда и вереницы машин везут солдат и офицеров вермахта, продырявленных пулями и осколками или обезножевших от русских морозов.