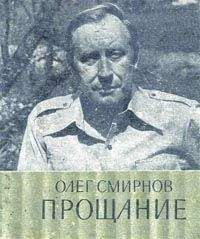И молодцы, что залпами. Командиры рот и взводов у него хорошие. Командуют так, как он сам бы командовал. Еще, еще стреляйте, залпами! Опоясывая лагерь и забивая треск немецких автоматов, прогремело несколько партизанских залпов. Скворцов снова поднес бинокль к глазам. Везде было примерно одно: цепи остановились, залегли. Кто жив, кто убит, не разберешь, — между ними, согнувшись, бегают, суетятся санитары и офицеры; первые будут вытаскивать раненых, вторые, видимо, понукают встать и идти в атаку. Но солдатам умирать не хочется, встать не торопятся. Лежат, стреляют из автоматов, карабинов, пулеметов. Партизаны отвечают — также автоматы и пулеметы. Перестрелка затянулась, даже разгорелась как будто. В атаку каратели не поднялись, зато возобновился артиллерийско-минометный обстрел. Краткий, минут на десять. Снаряды и мины падали на лагерь, поближе к его центру, — вероятно, немцы остерегались вмазать по своим, которые при обстреле не отошли, остались там, где прервалась атака. Разрывы, разрывы. Прислушиваясь к ним, Скворцов думал: «Что потом? Будет атака. Надеюсь, отобьем. Дальше что? Выходить из окружения? Когда? Может, Новожилов подскажет?» Но начальник штаба ничего не подсказывал, смотрел в бинокль, опуская его, вслушивался в артиллерийский грохот. Стало быть, оценивал обстановку, оставляя принятие решения за командиром.
Рассвело окончательно. В сыро серевшем небе вроде бы кое-где заголубело. И в этом, заголубевшем, родился ноющий звук самолета. Звук немецкий, наши так не подвывают. Хотя порой и появляются. Самолет не бомбил, не обстреливал, но и не улетал. Не снижаясь, кружил над лесом. Разведывает? Накануне войны так вот летали, вынюхивали. Артобстрел прекратился. Выдавался передых. Он на пользу партизанам: тылы выведем, раненых, возможно, и роты пора выводить. Скворцов спросил об этом Новожилова, тот опять ответил:
— Сомневаюсь в неизбежности отхода. Атаки мы можем отбить.
— А я не сомневаюсь! — сказал Скворцов.
Твердость была напускная. То есть он не сомневался, что надо выходить из мешка, покамест каратели не завязали его горловину на Гнилых топях, тогда партизан прихлопнут. Но он колебался, сейчас отходить или позже? Когда — позже? Самолет наконец улетел, и стали слышны автомобильные моторы на западе и северо-западе. Там просеки. Не подвозят ли каратели подкрепление? Пришел из первой траншеи Емельянов, обляпанный грязью, подтвердил: похоже, подтягивается подкрепление. Притопал из другой роты взводный — взамен связного, раненого, — Роман Стецко, Скворцов припомнил: бывший милиционер. Слушая Стецько, подумал: отличный командир, боевой, обстрелянный, со временем из него выйдет ротный. Роман Стецько докладывал:
— При огневом контакте, товарищ командир отряда, мой взвод уложил с десяток карателей. Они, бисовы дети, подобрались метров на сорок. Из траншеи наблюдатели углядели: посередь трупов один шевелится. Санитары к нему еще не подобрались, а мои ребята подобрались. Унтер-офицер, пораненный, помирал, но показал: действует карательный батальон, подтягивают артиллерию, в резерве еще рота, ее подбрасывают на машинах. Наблюдатели углядели: из машин выгружаются автоматчики, пулеметчики. Поэтому командир роты послал меня к вам. Предупредить: новые атаки могут оказаться сильней…
«Предупреждает, — подумал Скворцов. — Но решение принимать буду я. Точнее: решение я уже принял».
— Ну, а с унтером что? — спросил Емельянов.
— Помер, бисов сын, — сказал Стецько.
Скворцов сказал:
— Наверное, скоро будет атака. Отобьем ее и будем выходить из окружения. Сигнал для отхода — три красных ракеты… Так, комиссар?
— Так, — сказал Емельянов.
Новожилов ничего не сказал. С решением Скворцова не согласен, но выполнять его будет неукоснительно, таков уж начштаба. Все произошло, как и предполагал Скворцов: снова была артподготовка, за ней — атака автоматчиков. Снарядов и мин немцы положили побольше, чем прежде, и натиск автоматчиков был покруче. Кое-где они вклинились в оборону, захватили отдельные участки первой траншеи; однако вглубь их не пропустили. Не пропустили… Еще одна такая атака, и каратели прорвут оборону. Силы их превосходящие, нужно трезво оценивать обстановку. Воняло порохом, горел кустарник, стлался дым, с южной стороны не смолкала перестрелка, где-то слева, совсем поблизости, лаяли и рычали овчарки. Не дожидаясь донесений от всех рот и взводов, Скворцов выпустил три ракеты, — дымно-красные дуги повисли над командным пунктом и первой линией траншей, как бы связав их.
— Пошли! — скомандовал Скворцов и поспешно зашагал по траншее, за ним Емельянов, Новожилов и связные. Дошагали до изгиба, вылезли из траншеи, тропой мимо воронок, ям и луж побежали к кустам и молоденькому ельнику. В ельничке к ним примкнули разведчики, а потом и вся группа у поворота на Гнилые топи примкнула к первой роте. Рота двигалась ускоренным шагом, гуськом. Командир, пропустив свое подразделение, доложил Скворцову:
— В заслоне ручной пулемет и два гранатометчика.
Этот ручной пулемет слышали — бил и бил короткими очередями, словно прощаясь с отходившими. Нет, прощаться не надо. Прикрыв отход, надо самим оторваться от противника и уйти. Сумеют ли? И другие пулеметы прикрытия были слышны Скворцову. Справа, за багульником, промелькнула коновязь и брошенная землянка с распахнутой настежь дверью, как с раскрытым в крике ртом. Потом потрескивание сучьев сменилось чавканьем болотной жижи, но автоматы трещали по-прежнему, пули свистели. Каратели шли по пятам. Надо оторваться, шире шаг! Впереди, сбоку и сзади Скворцова, обгоняя или отставая, шагали партизаны, и он, знавший каждого в лицо, не каждого находил в цепочке. Подумал с горечью: «Поредела рота». Поредела: некоторых тащили на плащ-палатках, вели под руки. Раненые. А убитые? Был категорический приказ по отряду: убитых партизан немедля хоронить или же уносить с собой, ни в коем случае не оставлять на поругание врагу. Убитых не несут, значит, захоронили— хотя бы и наспех. В овражке, поросшем тальниками, Скворцов остановился. Сердце колотилось, пот стекал со лба. Утерся. Осмотрелся. Отсюда, через заросли, и дальше, по осоке, по камышам, — путь на Гнилые топи. Стрельба не прекращалась, за оврагом ухнули гранатные разрывы. К Скворцову подошли Емельянов и Новожилов, чуть позже со второй ротой прибежал запыхавшийся, потный Павло Лобода. В тальниках скопилось много народу, надо рассасываться.
— Роты поживей проводите через топи, — сказал Скворцов. — Начальник штаба возглавит. Так?
— Есть, товарищ командир! — Новожилов невозмутимо почтителен, но Скворцову понятно, как дается это Эдуарду: предпочел бы остаться в овраге, с прикрытием.
— Новожилов, возьмешь с собой часть разведчиков. Остальные вместе со взводом Стецько будут у оврага прикрывать отход. Мы с комиссаром будем здесь.
— Я тоже останусь с разведчиками здесь. — В голосе Лободы не просьба, а утверждение;
— Останешься, — сказал Скворцов. — Заляжем вон там, на холмике, за елками.
Один за другим партизаны исчезали в тальниках, с холма было видно, как за ними смыкались ветки. Живей бы, шире бы шаг! Каратели вот-вот появятся. С холма, из-под елей, овражек просматривался из края в край; группа Скворцова расположилась полукругом, позиция неплохая. В тальниках взорвались гранаты, там замелькали немцы с собаками. С холма открыли огонь. Скворцов нажимал на спуск автомата, улавливая его нетерпеливую дрожь. Порядок? Будто кто-то щелчком сбил с него шапку. Он поднял ее со мха, повертел: дырочка у самого верха. Пробита. Пулей. Сантиметром ниже — и в башку бы. Вот тебе и огневой контакт! Он нахлобучил шапку, приладил автомат на локте и выпустил очередь.
— Убейте его, дядя Игорь! Убейте!
Василь кричал, тыча пальцем в пленного, другая рука сжата в кулак, суставы побелели, и лицо было бледное, искаженное яростью, ненавистью и страхом. Пленный отшатывался, будто мальчишка наступал на него, но мальчишка не сходил с места, лишь тыкал перед собой худым пальцем, словно пронзая, а намертво сжатый кулак прижимал к груди. Скворцов сказал повелительно:
— Перестань!
Пацан перестал кричать, но был белый, с трясущимися губами. Пленный растерянно оглядывался на Скворцова, как будто ища у него заступничества. Скворцов подошел к пацану, обнял за костлявые плечи, привлек к себе:
— Успокойся, Василек.
— Дядя Игорь, товарищ командир, — почти шепотом сказал Василь. — Они людей убивают. Мою мамку угнали, чтоб убить, и батьку убили…
— Видишь ли, хлопчик, этот немец добровольно поднял руки, сдался. И он нам нужен, разумеешь? Он доктор, разумеешь?
— Он немец, фашист!
Ну, как ему объяснить ситуацию, когда и для тебя она непростая? Мало у меня забот, так принесло этого боша. Хотя по правде: врач нужен позарез. До сей поры отряд был, считай, без медицины. Как, впрочем, и некоторые соседние отряды. Рассказывают, в отряде «Бесстрашный» одного партизана, с гангреной, так оперировали: напоили спиртом, спиртом же протерли ножовку и этой ножовкой — пронеси господи — отпилили руку по плечо. Скворцов своих раненых переправлял в отряд Волощака, где была санчасть. Иосиф-то Герасимович и попытался помочь Скворцову: послал как-то фельдшера, передаю, мол, в вечное пользование. Фельдшер не врач, однако на безрыбье и рак рыба. Как обрадовался Скворцов этому фельдшеру, как благодарил Волощака! Но то ли Иосиф Герасимович плохо изучил свой кадр, то ли не придал значения некоторым его качествам, только на поверку фельдшер оказался злостным запивохой. Возможно, у Волощака он держался, а попал на самостоятельную должность, — присосался к бутылкам, не просыхал от спирта. И еще, пожилой, плешивый, траченный молью козел, он приставал к женщинам в отряде. С восемнадцатилетней Лидой так знакомился: «Вася». А она ему: «Лидия Алексеевна». Отбрила.