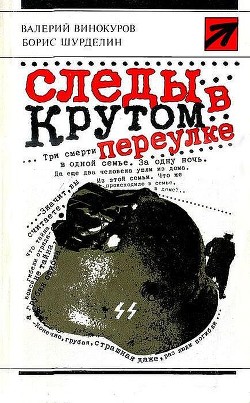Всю жизнь помнил Гурба эти слова. В отчете не написал о них, чтобы память о командире не порочить, но, конечно, и чтобы лишних расспросов не вызывать. Всю жизнь помнил эти слова, но адресовал их себе.
— Он и Петрушина убил, и Сличко в овраг отправил — хотел своими руками, не дождался, пугало поставил, — сказал напоследок Малыха и замолчал, тяжело переводя дух.
— Как же Петрушина? — спросил я из своего угла. — Разве Гурба левша?
— Рулевой он, как и я, — ответил Малыха. — У меня обе руки одинаково работают.
— Все ясно, — заявил я и встал, чтобы передать прокурору зеленую тетрадку. Пусть прочтет раньше меня, это и по закону правильней. Но не успел я шагу ступить, как вскочил Баляба и выбежал на середину кабинета.
— Нет, не все! — крикнул он и злым взглядом своих маленьких глаз заставил меня опуститься в кресло. — Не все! Это я пугало поставил! Зачем он врет? — и так же зло посмотрел на Малыху. Бедный Гриша совсем растерялся.
Привалов встал из-за стола, подошел к Балябе, обнял его за плечи и мягко сопроводил к стулу.
— Успокойтесь, Федор Корнеевич, сядьте. И все, что хотите, расскажите нам.
Баляба сел и, пока прокурор возвращался к столу, достал из кармана стеклянную трубочку с крошечными таблетками, высыпал на ладонь, сунул под язык. Мы все молчали и даже не смотрели в его сторону.
— Я выследил его, — глядя в пол, заговорил наконец Баляба. — Выследил и никому не сказал. Да! Потому что сам хотел его, гада, вот этими руками хотел… Да! Я знал, что он прячется на Микитовке. У суки, у этой Галины, в старом доме Кураней. И к Петрушину он ходил. И к свояченице своей, в Крутой переулок. Я глаз с него не спускал. Да! Я в порту его однажды узнал. И выследил. Да! А ночью тогда понял: его спугнут. И ждал у оврага. Там и Гурба мелькнул. «Случайно», — подумал я. Откуда мне знать было все, что он тут наболтал, — он снова метнул исподлобья быстрый взгляд в сторону Малыхи. — Я боялся, что заметят меня. Пока объясняться буду, уйдет Сличко. Да! Я и полез в бизяевский двор. Пугало соорудил, только поставил — точно, эта сука Курань бежит. И стонет кто-то. Это ее последний муж оказался, тот, что ногу сломал… Да! Я сховался, а потом этот недоносок сличковский пробежал мимо пугала. И сам Сличко. Да! Я хотел ему навстречу, а он — в овраг. Да! Вот как было. Понял? — И он обернулся к Малыхе.
Парень робко пожал плечами.
— Не знаю. Он сам мне сказал. Я — что?
— Спасибо, Федор Корнеевич, — сегодня Привалов всех хотел успокоить. — Теперь понятно. Вы хорошо пояснили. Значит, и Гурба вас видел. Видел, как вы пугало ставили. И решил себе приписать. Вы еще что-нибудь добавите? С чем-нибудь не согласны?
— Да! То есть нет, — ответил Баляба. — Да! Все рассказал. Что знал. Да!
А о том, что на кладбище с Петрушиным был Гурба, нам сообщил лейтенант Осокин. Это было его открытие. Его заслуга. И прокурор пока что наградил его тем, что разрешил это открытие обнародовать.
Когда расследование, казалось, зашло в тупик и у кого-нибудь другого, только не у Осокина, могли бы опуститься руки, лейтенант начал все с начала. Он снова побывал на кладбище, нашел там выброшенный кем-то кол (Чергинец видел, как это сделала Софья во время похорон Петрушина) и даже кирпич, которым кол забивали. Но оказалось, что кирпич и этот кол не касались друг друга: кол-то, по указанию Привалова, подменили. Осокин, обнаружив несовпадение, пришел к прокурору, получил у него подлинный кол, на котором остались ворсинки ткани от перчаток.
Осокин уже знал, что резиновые сапоги, оставившие следы на кладбище и у петрушинского дома, по размеру не подходят никому из четырех бывших партизан. От столяра Афанасьича, делавшего копию кола, он знал и то, что эту осину завезли сначала на дровяной склад, что на переезде, а оттуда — на склад в порту. Осокин облазил, и не по одному разу, оба склада. Пока наконец не обнаружил в самом дальнем конце портового склада резиновые сапоги, заброшенные туда через сложенные поленницей дрова. А потом нашел и перчатки, которыми пользовались грузчики. Внутри левого сапога осталось небольшое пятно: тот, кто надевал их, натер ногу, сапоги, значит, были ему малы, оттого и прихрамывал человек, оставивший следы.
С колом в руке — не подлинным, тот же находился на экспертизе, а с копией, сделанной Афанасьичем, — Осокин и заглянул к заведующему грузовым двором Гурбе. Заглянул, чтобы попросить список грузчиков — кто-то из них ведь мог взять со склада и дерево, и сапоги, и перчатки. Гурба ответил, что это мог быть любой из работников двора и что список лейтенант может взять в отделе кадров. Когда Осокин вышел из крохотной комнатки заведующего и уже со двора обернулся, то через большое окно увидел: Гурба сидит, поставив локти на стол, сдавив большими пальцами обеих рук виски и закрыв ладонями лицо. А ведь Гурба был одним из тех четверых, кто мог иметь основания для самосуда.
Это и было открытием Осокина. «Все остальное — дело времени», — сказал он прокурору. Но оно не потребовалось. На завтра была назначена инсценировка, задуманная партизанами. Да, в следственном деле не только отпечатки пальцев имеют значение. Осокин вышел на убийцу Петрушина и без этой инсценировки. Когда же после инсценировки прокурор вернулся к себе в кабинет, он дал Осокину разрешение ознакомить Гурбу с обвинениями, которые могут быть против него выдвинуты. Одно расхождение между отчетом Гурбы и тем, что говорил тот на инсценировке, Привалов все-таки заметил: в отчете Гурба написал, что сразу же после сигнала командира поспешил за Мукимовым, а сейчас, спустя почти двадцать лет, сказал, что еще ждал командира, надеясь на его возвращение. Прокурор полагал, что, если он попросит Гурбу уточнить, тот, находясь в возбужденном после пережитого состоянии, во всем признается.
На милицейском «газике» Осокин сперва отправился в порт, но не дождавшись там Гурбы и Малыхи, двинулся было им навстречу. И снова Осокин догадался, что надо свернуть к обрыву. Чуть-чуть не успел.
Мне осталось положить на стол Привалову зеленую тетрадку. Он полистал ее, исписанную мелким круглым почерком, вырвал четыре первых листа, где шла речь о том, о чем рассказали нам только что Малыха и Осокин. Вырвал, чтобы приобщить их к делу.
— Кол он, оказывается, поставил по примете, что бытовала когда-то и в наших краях, — просматривая вырванные листки, заметил Привалов. — Чтоб вурдалак не встал из гроба. Как же надо было жить все эти двадцать лет, чтобы вспомнить о такой примете?! Ты зайди к нему домой, Гриша, — попросил прокурор Малыху. — У него ребята неплохие. Помочь им надо.
— А потом что было? — спросил я.
— А потом его увидел Петрушин, догадался. Или знал? Наврал, что у него дома есть признание Сличко о предательстве Гурбы. Примитивный шантаж. А в кармане у Петрушина — молоток. Вот и получил удар колом по голове. Ну, остальное-то известно.
И прокурор вернул мне тетрадку.
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ПЕРСОНАЖАХ ВСЕЙ «НОВОДНЕПРОВСКОЙ ХРОНИКИ»
ПРИВАЛОВ Святослав Владимирович родился в Новоднепровске в 1930 году. В 1953 году закончил МГУ (юридический факультет). С августа того же года — помощник прокурора города Новоднепровска, с 1958 года — прокурор города и района, впоследствии — прокурор области. В юности занимался спортом — мотогонками и стрельбой. Сын В. С. Привалова, который во время войны был директором завода на Урале, а после войны — управляющим горнорудным трестом в Новоднепровске.
ЧЕРГИНЕЦ Сергей Игнатьевич родился в Новоднепровске в 1936 году в семье рабочего «Южстали». С четырнадцати лет работал в мартеновском цехе, учился в вечернем техникуме. Перед уходом в армию некоторое время был исполняющим обязанности сталевара. Служил в танковых войсках. После службы стал одним из ведущих сталеваров мартеновского цеха «Южстали», закончил вечерний металлургический институт. Неоднократно избирался депутатом облсовета. Впоследствии стал первым секретарем Новоднепровского горкома партии.