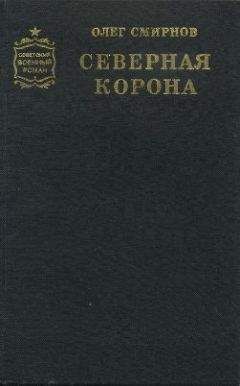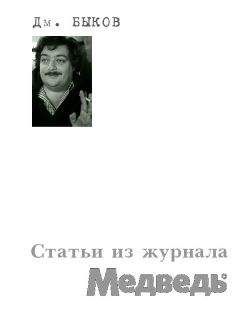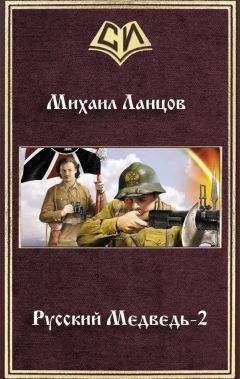Промозгло. Дугинец нахлобучил фуражку, поднял воротник шинели. Адъютант налил ему из термоса чаю, он выпил, снова приник к окулярам. Все то же: разрывы снарядов, пулеметная стрельба. Начали обещающе, с ходу захватили две траншеи, вышли на высоту, сейчас топчемся.
Однако после того как артиллерия и гвардейские минометы потрудились, полки стали продвигаться.
— Можно НП менять, товарищ генерал? — спросил начальник штаба.
— А не повременить? — сказал Дугинец, — Поле боя отсюда еще видно.
— Уже не все просматривается, — сказал пунктуальный начштаба. — Правый фланг заворачивает за насыпь.
— Это так, Вячеслав Самойлович. Давай команду, будем перебираться, пожалуй.
Дугинец отошел от стереотрубы, потер глаза, сказал:
— Синоптики обещали прояснение к полудню. Верь им после этого.
— Известно, небесная канцелярия, — сказал начштаба.
— Концентрация танков меня беспокоит.
— Танкоопасные направления учтены, товарищ генерал.
— Вячеслав Самойлович, милый, разве в бою все заранее учтешь?
У стереотрубы стоял майор, начальник оперативного отделения, покашливал, бормотал:
— Что за дьявольщина? Не может быть… Быть не может…
— Что такое? — спросил Дугинец.
Оперативщик повернул красное, растерянное лицо. Дугинец прильнул к окулярам и в первый миг не поверил увиденному: на участке шарлаповского полка на насыпь взбирались немецкие танки, а с насыпи бежали наши бойцы. Улепетывают от танков?!
— Шарлапова вызвать! — крикнул Дугинец телефонисту, но телефон зазуммерил, и телефонист сказал:
— Подполковник Шарлапов сами звонят. Приглушенный расстоянием и стрельбой голос Шарлапова:
— Танки прошли боевые порядки, движутся на мой КП.
— Не слепой, вижу, — сказал Дугинец. — Что случилось?
— Хозяйство Наймушина… — начал Шарлапов и пропал.
Телефонист сказал:
— Товарищ генерал, наверно, связь перебита.
— Вызывайте по радио! Начальник связи! Всполошились в соседнем укрытии, стали вызывать своих наблюдателей, свои подразделения. Телефонисты прикипели к трубкам, радисты — к наушникам. Дугинец сказал начальнику штаба:
— Переехали, называется.
— Я отменю распоряжение, товарищ генерал?
— Отменяйте. Как бы наш НП не переместился — только не вперед, а назад.
— Товарищ генерал, — сказал начштаба, — приданные и поддерживающие командиры готовы, можно ставить им задачу.
— Артиллеристы пусть пока дадут заградительный огонь. На направление движения танков выбросить противотанковый дивизион. Танкисты нанесут контрудар отсюда, из леса, из засады. А вообще надо знать, что скажет Шарлапов.
Связались наконец по радио с Шарлаповым: батальон Наймушина неожиданно повернул в сторону городка, обнажил фланг, в этот разрыв и вклинились немецкие танки.
Дугинец спросил: почему Наймушин повернул в сторону. Шарлапов ответил: не знаю, моего согласия не спросил, самовольно.
— А кто знает? Дядя? Каково сейчас положение?
— Не из легких. Управление батальонами потеряно, танки на моем КП, ведем бой.
Он не заикнулся о помощи, но Дугинец сам сказал:
— Посылаю истребительно-противотанковую батарею, подвижный отряд заграждения и роту автоматчиков. Восстанови связь с батальонами. Держись.
— Буду держаться, — сказал Шарлапов. — Положение выправим.
Просто сказать — выправим! Прежде чем выправили, весь день, до темноты, жгли танки, отсекали пехоту, ходили в рукопашную — немцы прорвались в дивизионные тылы, на НП к Дугинцу, пришлось и ему браться за гранаты.
Все-таки удалось приостановить отход, сомкнуть фланги, закрепиться, уничтожить прорвавшиеся танки и пехоту, а к вечеру — атакой вернуть утраченные позиции.
* * *
Часов в десять вечера Дугинцу позвонил командарм, голос недовольный, язвительный:
— Ну-с, Григорий Семенович, как там у тебя, чем возрадуешь?
— Я докладывал в корпус, — сказал Дугинец. — Положение восстановлено.
— И на том спасибо! На безрыбье и рак рыба… Меткая пословица?
— Меткая, — сказал Дугинец и без паузы продолжил: — У меня погиб брат. Его тело только что привезли на КП.
После тягостного молчания командарм сказал:
— Сочувствую тебе, Григорий Семенович, разделяю твое горе. Но утешать не умею и не буду. Ты солдат, справишься. Уточнишь обстановку — доложи мне. Поднимай в любое время. До свидания.
— До свидания, — сказал Дугинец.
Он отошел от телефона, сел на стул возле походной кровати. На кровати, завернутый в плащ-палатку, лежал Саня. На бледном лице синели ссадины и кровоподтеки, кровь, залившая лицо при ранении, была стерта ватой или бинтом, но неаккуратно, размазана. В волосах слиплась, засохла. Глаза ему уже закрыли, рот полуоткрыт, блестели зубы. Крепкие белые зубы…
Когда бой уже стихал, вечером, он услышал обрывок фразы: «Убит… роты автоматчиков?» Начальник штаба, говоривший по телефону, переспросил: «Командир автоматной роты?» — и быстро посмотрел на Дугинца. II у Душица блиндаж поплыл перед глазами: убит командир роты автоматчиков, той роты, которую он посылал Шарлапову из своего резерва. Значит, убит Саня?
Ноги будто отнялись, и правая рука будто отнялась, и сердце останавливается. Овладеть собой, во что бы то ни стало овладеть! Он зажмурился, отгоняя черные круги, закрывшие от него блиндаж, глубоко вдохнул, шевельнул пальцами руки, шагнул к начштаба:
— Брат убит?
— Да, — сказал начштаба и отвел глаза.
— Распорядись, Вячеслав Самойлович, чтобы тело доставили сюда.
Все отводили глаза, и Дугинец сам боялся встретиться с чьим-то взглядом. Стараясь не шаркать, он прошел в угол, сел и стал ждать. Круги, то черные, то оранжевые, разрастаясь из точки, возникали и пропадали. Голова, ноги, здоровая рука были непослушными, словно не его. Адъютант подал воды, Дугинец выпил, движением бровей отослал его.
За окошком шумели на ветру редкие листья осин, отжившие, лишенные соков. Шумели больше по старой памяти. Хлопали осветительные ракеты, высвечивая мокрые осиновые стволы в окошке. Капли с потолка падали в таз на столе, будто кто дергал басовитую струну, будто играли на хуре. Дугинец слышал, как играют на хуре, в Кяхте слышал, когда командовал батальоном — в то время его произвели из конников в пехотинцы. Саня был совсем молоденький.
Загудела машина, Дугинец поднял голову. Неразборчивые голоса, стукнула входная дверь. Заляпанные грязью люди внесли в блиндаж носилки.
— Положите на кровать, — сказал Дугинец.
— Прямо на одеяло? — спросил один из них.
— На одеяло, — сказал Дугинец.
Они приподняли тело, уложили на кровать, поправили голову, затоптались, не зная, куда девать руки, которыми укладывали Саню. Дугинец оказал:
— Благодарю. Как он погиб?
Тот, что спрашивал, класть ли прямо на одеяло, ответил:
— Старший лейтенант шел с ординарцем со своего КП. Немцы засекли, обстреляли из минометов. Ординарца убило на месте, старший лейтенант умер через десять минут у меня на руках. Ранение в голову, в грудь…
— Он был без сознания?
— Без сознания, товарищ генерал.
— Вы свободны. Идите, — сказал Дугинец.
Саня лежал на его постели, словно намаявшись на изнурительной, непосильной работе. На подошвах комья грязи, носки сапог забрызганы. Так у мужчин в грязную, дождливую погоду всегда. У женщин — задники забрызганы. Походка разная… О чем я?
* * *
Он просидел у тела брата несколько часов. Подходил к телефонам, если его вызывали, сам звонил командарму и снова садился у кровати, смотрел на Саню. Белые крепкие зубы, твердый подбородок, жесткие черные волосы, косой разрез глаз — Саня походил не на мать, а на того, на отчима, на Мингазеева. В детстве походил еще больше, с годами сходство стиралось. Стиралось, но не стерлось. Он давно перестал замечать в брате это сходство, а сейчас оно проступило, как будто сквозь черты брата проглянули черты того чужого человека — Мингазеева.
Мать вторично вышла замуж, когда отца задавило сосной в лесу. Отчим был угрюм, жесток, охоч до водки. Напиваясь, колотил и мать, и его, и Саньку. Он и помер от запоя, в белой горячке. И мать недолго протянула. И остался Санька на его руках.
Брат не был трусом, не прятался за чьи-то спины, даже за мою — генеральскую. Он попал в мою дивизию из госпиталя, уже из роты отправил открытку: так, мол, и так, волею судеб — к тебе. Мы повидались два или три раза, накоротке, без пространных разговоров, все было недосуг.
Свет от лампы сбоку освещал лицо, и одна половина его была бледнее, другая смуглее. Синели кровоподтеки и ссадины, острился нос. Черные волосы спутаны, черные брови вскинуты — словно Саня недоумевает, что это сделали с ним. А что сделали — убили. Убили брата.
Родился Саня черный-черный, и мальчишки со двора дразнили его: «Татарчонок». Он прибегал домой в слезах. Мать гладила ему волосы, успокаивала, с испугом глядя на отчима. Я говорил: «Татарчонок — это как галчонок, ты же любишь птиц, Санек?» Добрый был малец, ласковый. Если обижался, шептал: «Какой-то» — и отходил прочь. Я таскал его по всем гарнизонам, куда забрасывала воинская судьба, парень взрослел, мужал. Кончил техникум на Урале, обзавелся семьей.