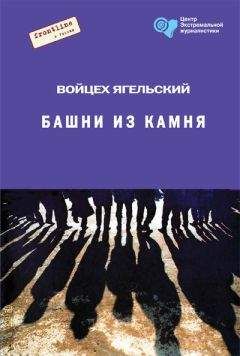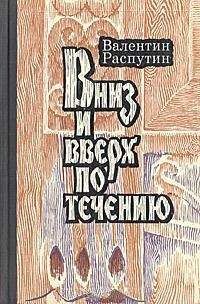Иса ездил в Шали поговорить с Ахмадом. После каждого визита на память Ахмаду оставалось припухшее лицо в синяках. Какое-то время все было спокойно, потом водка снова лишала Ахмада разума.
Ахмад подумывал о разводе, Иса, как старший в семье, не собирался на это соглашаться.
Тая тоже не хотела развода, говорила, что понимает гнев мужа. Не винила его, даже сочувствовала. Понятно ведь, он просто не в силах был вынести неожиданного бездействия. Оно отбирало остатки достоинства и всякое желание жить. Любой предпочел бы бросить семью, чем видеть, что является для нее обузой. Ахмаду было стыдно перед Таей и собственными детьми.
Это бессилие, эту утрату смысла жизни чеченским мужчинам было труднее переносить, чем военные поражения.
Не в силах дождаться, когда мужчины вернуться к своим давним обязанностям, не веря, что они обретут новую роль, чеченские женщины вынуждены были постепенно заменять их во всем. Они, которым когда-то запрещалось одним выходить из дому, теперь на улице не отходили от своих мужей. Их присутствие могло уберечь мужчин от ареста. Правда, не обязательно.
Теперь они торговали на базарах, работали в поле, скитались по стране в поисках своих близких среди пленных или в братских могилах. Многие женщины даже не хотели рожать детей, количество которых когда-то было причиной гордости и исполнением высочайшего долга. Теперь дети, прежде всего, значили страх за их жизнь.
В гости к Лейле приезжала ее старая знакомая из Грозного, доктор Эмма, работавшая в роддоме.
— И зачем они рвутся на белый свет? — выкрикивала она. Несмотря на войну, Эмма продолжала принимать роды в больнице, на которую по какому-то счастливому стечению обстоятельств не упала ни одна бомба. Больница была изрешечена автоматными очередями, а многие палаты разграблены российскими солдатами и местными мародерами, но стены стояли крепко и надежно держали потолок. — На что это похоже?! Вокруг война, никакой надежды, а эти рожают себе и рожают! И ни одна не задумается, как эту крошку потом прокормить, как уберечь от трагедии. А вдруг сама попадется под косу смерти? Что потом такая сиротинка будет делать на белом свете? Пораскинули бы мозгами! Они не знают, что значит потерять ребенка, воспитывать его на погибель!
У Эммы было двое сыновей, и она ежедневно умирала от страха, как бы с ними не случилось самое ужасное. Как с сыном ее подруги, для которого полученная во время бомбежки на прошлой войне рана оказалась сущим проклятием. Для солдата во время задержания и обыска ампутированная до локтя рука была достаточным доказательством того, что он был ранен в боях против россиян. Парня то и дело арестовывали, бросали за решетку, а когда семья выкупала его, возвращался домой избитый, обезумевший от страха.
Со слезами на глазах доктор Эмма клялась, что не пережила бы, если бы такое случилось с одним из ее сыновей. Она боялась, когда сыновья выходили на базар или к приятелям, боялась оставить их одних дома, когда сама уходила в больницу. В конце концов, отправила их в Россию, в Ставрополь. Не видела их, но чувствовала, что там они в большей безопасности. Что вовсе не значило, что так было на самом деле.
— Одиноким сегодня легче, они боятся только за себя. А себя даже оплакивать не придется, — говорила Эмма, вытирая слезы. — Сегодня лучше не иметь детей. Может, и некому будет тебя оплакивать, только это все равно лучше, чем обливать слезами тело собственного ребенка.
В ту ночь кто-то из деревенских выстрелил из автомата в российского часового. С солдатом ничего не случилось, но по деревне прошел слух, что россияне готовятся отомстить. Будут обыски, проверка документов, аресты мужчин, которые вызовут подозрение.
Иса разбудил меня и сказал, что нужно перебраться на ночь к его брату Хамзату. Он не сомневался, что россияне постучатся и в нашу дверь.
Хамзат жил с женой и двумя детьми на самом краю деревни за рекой, в глухом закутке. Его одинокий дом прятался в кустах, высокой траве и лопухах. Казалось, будто деревня выгнала, отказалась от него, не хотела иметь с ним дела. Он стоял слишком далеко от остальных дворов, чтобы обыскивающим деревню солдатом пришло в голову тащиться за реку. Разбуженный нами посреди ночи, Хамзат долго не мог добраться до двери, спотыкался о попадающиеся ему под ноги стулья.
Он решил спрятать меня в деревянной беседке за домом, куда до войны приглашал друзей на посиделки. Там было все, что нужно для приготовления шашлыков — сколоченный из не струганных досок стол и две огромные лавки, а также каменный круг, в котором разжигали костер.
Я спросил Хамзата, почему Иса, всегда в таком прекрасном контакте с россиянами, вдруг стал их бояться.
— Сам видишь. Тут все не надежно. Ни за что не ухватишься, — пожал он плечами. — Никакие законы не действуют, никакие договора не соблюдаются. Нет ни наказания, ни справедливости.
Исе он никогда бы не признался в том, что мне, чужаку, мог сказать. Когда россияне взяли Грозный, а их войска расквартировались почти в каждой чеченской деревне, он почувствовал облегчение. Да, облегчение, потому что верил, что наконец закончится война, страх и хаос, что он в конце концов обретет какую-то почву под ногами, какую-то точку опоры, с которой можно будет что-то начать, что-то построить. Многие тогда думали так же, как он, Хамзат в этом уверен. Слова были не нужны. Он видел это во взглядах, чувствовал.
Но военные, загнав партизан в горы, не собирались наводить порядок. По ночам пьяные солдаты ходили по домам, били хозяев, воровали все, что попало под руку. Забирали из домов девушек. Говорили, что на допрос, проверить, не были ли они связными у партизан. Некоторые не возвращались никогда. А те, что возвращались, запирались в своих домах, плакали и не говорили ни слова. Плакали и их отцы, потому что предпочитали видеть дочь мертвой, чем обесчещенной; опозоренная девушка становилась отверженной, вместо сочувствия на нее наваливалась жуткие страдания изгоя.
Солдаты стреляли, куда попало, арестовывали всех без разбору. Мужчины исчезали из деревни. Одни бежали в горы, других увозили россияне. Приходилось срочно добывать информацию, куда вывезли пленных, чтобы можно было их выкупить. На следующий день после арестов в мечети мулла во время моления оглашал список арестованных и размер выкупа. В кавказских деревнях обычно бывает несколько сотен дворов. Каждый из соседей спешил с помощью, зная, что несчастье, которое сегодня его миновало, завтра может свалиться на него самого.
Россияне обвиняли арестованных чеченцев в участии в партизанских отрядах и требовали сдать оружие.
— Он никакой не партизан, никогда не воевал, даже в армии не был, — начинали переговоры родственники
— Мы вам верим, но у нас есть основания подозревать его, — отвечали русские. — Лучше всего было бы, чтобы ваш родственник сдал автомат, и тогда мы его тут же выпустим.
— А где ему взять автомат, если он его никогда не имел? — спрашивали чеченцы.
— Если у вас нет, купите и отдайте, — звучал сакраментальный ответ.
На Кавказе, а уж тем более в Чечне, покупка автомата никогда не была сложной задачей. Проблема заключалась в том, что человека с тайно приобретенным оружием могли тут же задержать и арестовать как партизана. Самым безопасным способом достать автомат на выкуп родственника была его покупка непосредственно от россиян, которые, пользуясь своим положением, сами диктовали цены. Ни арестованный чеченец, ни его родственники никогда до этого автомата не дотрагивались и даже не видели его. Важно, что в бумагах было записано, что человек сдал оружие.
— Какие мы были глупые! Мы думали, станет лучше. Ничего не изменилось. Наоборот, становилось все хуже. Никакой власти, никакого спасения. Приходили одни, грабили, убивали. Приходили другие — то же самое. неизвестно, кем они были, откуда пришли, — у Хамзата был тихий, усталый голос. Может, поэтому он вызывал большее доверие, чем напичканные восклицательными знаками монологи Исы. — Как-то солдаты заехали на БТРах на поле и убили восемнадцать коров. Все стадо. Наверное, для развлечения, с собой-то забрали только три телки. Люди пошли жаловаться в комендатуру, да куда там! Ничего не доказали. А вечером, по телевизору сказали, что они окружили нашу деревню и уничтожили отряд партизан. Якобы только двоим удалось удрать. Наверное, пастухов имели в виду.
Хамзату казалось, что Чечня никому на самом деле в России не нужна, никого не волнует. Никто от нее ничего не ждет, не хочет о ней ничего знать и слышать. Если бы партизаны не взрывали бомбы в российских городах и поездах, никто бы и не помнил, что существует Чечня и что там идет война.
На взрывы бомб приходится реагировать российскому президенту, который уже давно объявил об окончании войны и победе. Разозлившись, он собирает генералов, устраивает им разнос перед камерами телевидения, и приказывает навести порядок. Генералы успокаивают президента, что все, мол, под контролем, все идет по плану и в соответствии с указаниями, что это временные трудности. Потом разбегаются по кабинетам, хватают телефонные трубки, звонят на Кавказ, матерятся и угрожают подчиненным полковникам и майорам, требуют немедленных действий, докладов. Полковники и майоры вызывают капитанов и лейтенантов. А те, чтобы отличиться, приказывают своим частям организовать облаву в ближайшей деревне, арестовать дюжину мужиков как скрывающихся партизан, обстрелять какой-нибудь лесок. Теперь обратно в Москву летят рапорты. Докладывают об успехах, арестах, потерях, которые несут повстанцы, по телевидению называемые не иначе как бандитами и главарями преступных банд.