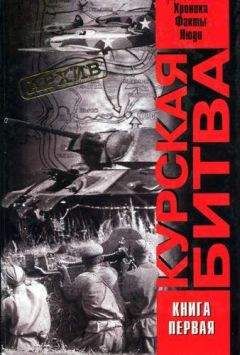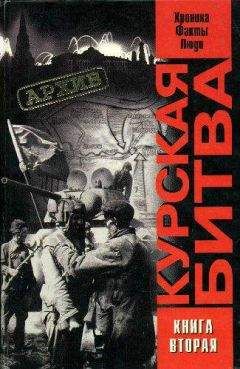Шпион кивнул и оглядел Матюхина.
В таком положении Матюхин еще никогда не бывал и не знал, с чего начать и как начать. Суторов глазами показал на руку Андрея – на ней птичьей лапкой вырисовывались шрамы от зубов немецкой овчарки: после первого побега из лагеря Андрея травили собаками, и он, защищаясь, подставлял им руку.
– Овчарки?
Андрей сразу понял его и кивнул.
Суторов трудно вздохнул и отвел глаза.
– Ты, выходит, выбрался… – Он перевел дыхание и в упор посмотрел на Матюхина. – А я вот сдал…
– Что ж так?
– Меня в родных местах взяли… Жена ходила по лагерям… Все меня искала. Нашла… Узнали, что у меня пятеро… Ну вот и сказали: не пойдешь, всех твоих повесим… А что сделаешь?.. Пошел.
– Почему уже здесь не перешел?
– А дети-то там… Не дошли наши-то… еще.
Во рту почему-то пересохло, и Андрей положительно не знал, как себя вести и что говорить. Перед ним сидел враг. Настоящий, не выдуманный, а врага этого Андрей жалел и не мог его судить. Внутренним, трудным судом, безжалостным и справедливым. Потому и спросил невпопад:
– Ну и что ж… теперь?
Неожиданно Суторов усмехнулся, смело и даже озорно, будто собирался сообщить забавную историю.
– А что ж теперь?.. Теперь шлепнут.
И потому, что Андрей и сам, подспудно, даже жалея, понимал, что такого шлепнут, но признаться в этом не мог даже самому себе, слова врага резанули его и начисто выбили все остатки самообладания. А Суторов вдруг сник и глухо сообщил:
– И нельзя иначе. Потому что если там узнают, что я сдался, моих повесят. У них это быстро делается.
– Но ты ж не сопротивлялся…
– Ну и что? Узнают – еще хуже… для моих. Тут не провернешься… Нет…
Страшен был этот самому себе вынесенный и самим собой утвержденный смертный приговор, и говорить уже не хотелось: смерть даже на фронте – она и есть смерть…
Но то, что человек этот хотел собственной смерти, потому что эта смерть могла защитить и спасти его пятерых детей – русских детей! – поразила Матюхина. Отцовскую логику он не понимал и, еще не зная, как поступить, что подумать, все-таки внутренне согласился с ней. Да, ради детей можно и должно пойти на смерть. Но в то же время по своим внутренним законам он восставал претив такой логики Выходило, что, спасая своих детей, защищая свой дом, Суторов сознательно пошел против тысяч таких же детей и таких домов.
Растерянность стала исчезать, вернулось самообладание.
Суторов сразу, без перехода, принял смену и настроения, и темы.
– А нас не перебрасывали. Нас оставили.
– Как оставили?
– Когда… красные перешли в наступление, нам приказали остаться, пропустить фронт, а потом разведать, что нужно, и вернуться.
– А что нужно?
– Всего я не знаю. Я ведь в прикрытии шел. Главный Вальтер, а его заместитель – Франц. Они решали. Я выполнял.
– Слушай, Суторов, в разведке так не бывает. В разведке каждый должен…
– Что должен – я знаю. Но только это у… красных. Там по-другому. Понял? Вот. А хоронились мы в лесу. Закопались в землю, под дернину, вверху через пень вентиляцию сделали. Скажу честно – замаскировались отлично. Над нами… по нас пройдешь – и не заметишь. Отсиделись – и вышли.
Всю мудрость этого решения Матюхин оценил сразу, но уточнять детали не стал: прием хорош, когда войска отступают. В начале войны и наши так делали, а сейчас, у войны на переломе, он пригоден только для противника.
– А как вели разведку?
– В основном наблюдением. Использовали высокие деревья. Заберешься и целый день, как скворец, сидишь.
Все правильно. Если это же делал Андрей, то почему же не сделать то же самое противнику?
– Не засекали?
– Кто? Люди ж чаще под ноги смотрят, чем до горы. Да и маскировка хорошая. – Суторов помолчал и обиженно спросил: – А чего ж не интересуетесь, по каким признакам разведывали резервы?
– С деревьев? И так ясно – дымки кухонь, движение на подходах, новые дороги, полевые занятия, линии связи… Ну и так далее… Но, думается, этим вы не ограничивались.
– Верно. Еще разговоры разговаривали. Вальтер хорошо болтал по-русски. Видно, жил у нас. Я помогал. Трепались с шоферами, связистами – свой брат солдат.
– И никто не усомнился?
– Видишь, если бы Вальтер не действовал нахально, может, кто и засомневался. А он, видишь ты, болтал ленивенько, с подначкой… Верили.
– Как держали связь?
– Рации нам не дали – сказали, что все равно запеленгуют. Но у нас, видишь ты, собака была. Овчарка. Натаскивали ее особо. Вот на шестой день Вальтер и послал с нею донесение.
– Как это с нею?
– А очень даже просто. Вывели поближе к передку, Вальтер ей приказал чесать к своим – она и почесала. – Уловив сомнение в глазах Матюхина, Суторов спросил: – Забыл, что ли, как они овчарок дрессируют?
Нет, этого Андрей не забыл. Противник умел дрессировать собак и умел ими пользоваться. Дрессировал и на людей, дрессировал и как связных. И не это взволновало Матюхина.
В тоне Суторова звучало нечто удивительное – он словно еще жил техническим превосходством врага, его жестокой, изощренной силой и, в душе удивляясь ей, покорялся. Она сломила Суторова потому, что он растерялся перед ней, незнакомой, не понятой им.
Почему-то вспомнились первые недели войны, когда даже умные люди верили, что на немецких самолетах установлены особые аппараты, которые слышат, что делается на земле. Когда пролетал разведчик противника, такие люди замирали, боясь дышать, а того, кто, по их мнению, нарушал звукомаскировку, готовы были убить.
И еще помнилось, как некоторые были уверены, что немецким машинам не требовался бензин. Стоило залить в них воды, высыпать в нее белый порошок из продолговатой коричневой коробочки, как машины заводились и ехали дальше. И доказывать таким верящим, что нет у немецких самолетов сверхчувствительных приборов, что белый порошок – всего лишь дезинфицирующий состав для обеззараживания воды, в те жуткие месяцы было безнадежно.
Но помнилось и другое. Андрей видел, как после одного залпа «катюш» бежали, бросая оружие и технику, целые полки. Десятки немцев говорили ему, что у русских есть бесшумные самолеты. А это были наши обычные «кукурузники», которые перед целью выключали моторы и бомбили с планирования.
Да, Суторов сломался изнутри. А дети для него стали лишь внутренним оправданием. Даже теперь, когда он напомнил о дрессированной собаке, в его тоне прозвучали еле заметные нотки и восхищения, и даже некоего личного превосходства над Андреем, словно он, Суторов, слегка гордился тем, что причастен к этой не познанной им силе. И именно это насторожило и возмутило Андрея. Теперь он, пожалуй, раскаивался в своей жалости к Суторову.
– Ну что ж, собака – это придумано умно. Но это годится, когда драпаешь.
– Это ж почему? – недоверчиво и даже как бы обиженно спросил Суторов. Похоже, что, увидев следы немецких овчарок на руке Андрея, он признал его, младшего лейтенанта, за своего и даже позволил себе называть на «ты».
– А потому, что собаку можно научить идти по следу, можно научить травить людей или научить бегать назад в знакомые места. А вот вперед, туда, где она не бывала, ее не пошлешь. Не поймет, что от нее требуется…
Суторов пристально посмотрел на Андрея, потупился и вздохнул.
– Кстати, а если бы вашу собаку пристрелили на передовой?
– Не-а, – помотал головой Суторов. – На то и расчет. Русские вот так, запросто, собаку не убьют.
– Но вдруг бы убили? Или на мину напоролась? Как бы вы узнали, что ваше донесение получено?
– А нам дымами сигналили. Есть у них такие цветные дымы. Вот ими и просигналили. Дескать, дошла собачка. Что нужно – получено.
– Вот это умно. И я так понимаю, вы тоже дымами сигналили? И трассирующими?
– Точно. Когда подсобрали новые данные и срок у нас кончился, а захватить машину не удалось, дали знать, что просим открыть нам ворота. Для выхода.
– А как?
– Вот этого не знаю. Это Вальтер знал. Но, как я понимаю, переходить собирались в лощинке, перед которой жгли дым. Его, между прочим, тоже не с земли пускали, а с дерева. Подожгли шашку, постреляли – ив кусты.
– Кустов не боялись? В них ведь засады, – спросил Андрей, отмечая, что сигнальные дымы жгли правильно, следов не оставляли.
– Нет. Собачек-то у вас не имеется. – И опять в голосе Суторова прозвучал отголосок причастности к чужой, страшной силе.
Отголосок этот окончательно отторг Матюхина от шпиона. Он стал физически неприятен, и разговаривать с ним Андрей не только не хотел, а уже не мог.
Они сидели молча, и Суторов глухо спросил:
– Больше ничем не интересуетесь?
– Нет, – сухо ответил Андрей, и в глазах Суторова мелькнул страх – он, видимо, понял, что уже не нужен…
Безмолвный белесый младший лейтенант поднялся из-за стола, прошел к двери. И почти сейчас же в комнате появились конвойные. Суторов оглянулся, увидел автоматчиков и стал медленно, словно насильно отрываясь от табуретки, подниматься.