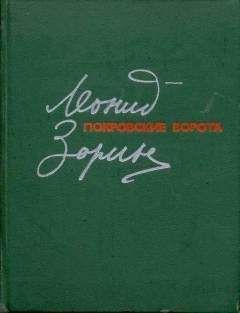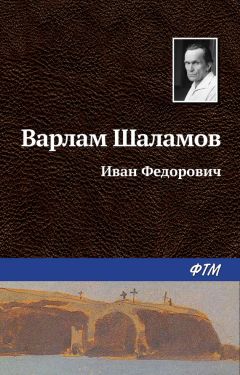На станцию Лоухи приехали днем. И слава богу. Ночью мы пропали бы тут. Глушь, безлюдье. Спросить что-либо не у кого. А мороз лютует, пальцы ног закоченели, щеки того и гляди прихватит так, что и не ототрешь. Оглядываемся. Где-то недалеко — фронт, слышны орудийные раскаты. Вон и самолет кружится. Мы поначалу с непривычки запаниковали. Но вскоре поняли, что это наш самолет. С опаской косимся на запад, на темную полосу леса, протянувшуюся по горизонту. Нам она кажется зловещей. И неудивительно — там противник. Туда и самолет ушел. Должно быть, бомбить финнов.
Снова оглядываемся — ни людей, ни дороги. Пустыня. В сердце невольно закрадывается страх. Смотрю на Горячева: только что парень шутил, балагурил, а тут вдруг присмирел. Наконец показалась машина. Она шла в сторону леса. Стало быть, в лесу-то наши. Мы тоже поспешили вслед машине, придерживаясь железнодорожного полотна. Повсюду штабеля бревен, доски, рвы, ямы. Идем спотыкаясь, иногда проваливаясь в снег. Он набивается в голенища сапог и тает там. А мороз — градусов двадцать, а то и ниже. Не обморозить бы ноги. «Ничего, — бодрится Горячев. — На ходу не обморозимся, надо только идти быстрей».
Вот она, наконец, и долгожданная дорога. Широкая, хорошо накатанная, стрелой устремившаяся в лес. А через какое-то время нас нагоняет бортовая машина. Спешим проголосовать, но шофер и без того тормозит:
— Новички? На фронт? А ну живо в машину!
Едем с ветерком и через минуту врываемся в лес. По обе стороны вековые сосны. Тишина. Слышится только шум мотора. И не верится, что где-то неподалеку война. Однако не проехали мы и пяти километров, как перед нашими глазами открылась неожиданная картина: по обе стороны дороги лес словно подсечен. Стоят одни пеньки. «Бурей, что ли, лес свалило? — теряюсь в догадках. — Иль смерч пронесся?»
Горячев оказался сообразительнее:
— Вот она, злодейка-война, что наделала! — кивает он на пеньки. Тут и я, наконец, догадываюсь, что в лесу поработала артиллерия. «А как же люди, что были тут, если вековые сосны, и те повалились?» Жутковато сделалось на душе.
А машина мчится, мотор шумит. Не потому ли пока не слышно ни винтовочной стрельбы, ни автоматных очередей...
Внимание мое все больше клонится к промокшим ногам. Они зазябли уже настолько, что я их почти не чувствую. Шевелю пальцами — не помогает. Скорее бы, скорее добраться до места, скинуть сапоги, перевернуть портянки. Между прочим, ехать по морозу в открытой машине в одной шинельке и сапогах и при этом не простудиться можно только в военных условиях. Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем мне приходилось бывать и в более худших условиях. И я, и другие промерзали порой, что называется, насквозь. Но чтобы хотя бы насморк кто-нибудь схватил — такого почти не было. К санитарам обращались только раненые. Были, конечно, случаи обморожения ног, рук, щек. Но с этой напастью солдаты боролись просто: натирали отмороженные места снегом.
Шофер наконец свернул с большака. Едем узкой извилистой дорогой. По сторонам то и дело попадаются военные. Одеты они не как мы с Горячевым: у всех полушубки, ватные брюки, валенки. А вот и землянки — да много-то как! У входа часовые с винтовками... Но это, как мы вскоре поняли, отнюдь не передний край, а всего лишь тылы. Штаб полка, политотдел, другие службы — проезжаю и с любопытством смотрю на непривычную для глаз картину. Вдруг вижу целую толпу военных. Человек двадцать, а то и больше. Когда машина сделала поворот, стал виден человек в центре толпы. В одной гимнастерке, без ремня и шапки, он стоял, склонив голову, и слушал, видимо, приказ, который читал командир в хорошо пригнанной шинели. Шофер остановил машину, с минуту прислушивался, приоткрыв кабину, потом сказал:
— Никак, предателя судят? Или приговор уже читают. С такими много не чванятся. Изменил? Предал? Лови пулю в лоб.
Вскоре раздался выстрел. Человек в гимнастерке изогнулся, вскинул руки, как бы пытаясь за что-то уцепиться, чтоб не упасть, и рухнул на землю. У меня сердце остановилось. А шофер хлопнул дверцей, нажал на педаль и поехал. Я говорю Горячеву:
— Невесело начинается наша фронтовая жизнь.
— На войне мало веселья, — тихо ответил Горячев. — Если не убьют, то ранят. Но такую смерть... — Он оглянулся назад. — Не дай бог.
Наконец мы приехали в свою часть. Нас тут же плотно накормили, переодели в белые шубники с воротниками. Выдали теплые брюки, валенки. Благодать! Наконец-то мои ноги отогреются. Смотрю на Горячева и не узнаю. В шинели он казался выше ростом, стройнее. А в шубняке словно бы пополнел и в росте сократился. Изменилось и лицо, стало серьезнее, сосредоточеннее. Тыловая жизнь кончилась, начинается фронтовая...
Увидеть передний край ему довелось уже на следующий день: начальник штаба послал его туда с каким-то заданием. Вернулся мой коллега скоро и с каким же восторгом рассказывал обо всем, что там увидел. Нет, ему не довелось лицезреть рукопашную схватку, никто из наших бойцов не кричал «Ура! За Родину!» Однако новичку, человеку, ни разу еще не побывавшему в бою, спуститься в окопы, увидеть противника с расстояния в несколько сот метров тоже что-то значило.
Противник, судя по всему, укреплял свою оборону. «Он уже укрепился, — взволнованно рассказывал Горячев. — Траншеи, колючая проволока. И не в один ряд. А подобраться к ней непросто — местность открытая».
Рассказ товарища и меня взволновал. Неужели и мне придется по открытой местности идти на эту проволоку? Это же верная гибель.
В тот же день и я получил задание. Один из сотрудников штаба подзывает меня к себе и говорит:
— Вот этот товарищ (он указал на молодого бойца, по-видимому, посыльного) доведет вас до стрелковой роты. Подберите там для нее командира. Прежний командир убит, политрук ранен, а когда будет пополнение, никто не знает. Найдите солдата посмелее, потолковее, вам подскажут, кого. И назначьте его командиром роты. Действуйте!
Отправился в роту я не без колебаний. Найти солдата, поставить его во главе роты? А много ли пользы будет от такого командира? Но делать нечего: задание есть задание. И я его выполню.
Рота стояла во втором эшелоне. Построить ее труда не составляло. В оценке людей у меня глаз наметан: был пропагандистом, секретарем парторганизации. Приказываю построиться. И вот она, вся рота, передо мной. Но какая это рота! Два взвода, и те неполных. Объясняю бойцам сложившуюся обстановку. Они слушают, а я вглядываюсь в лица. Замечаю бойца на правом фланге. Взгляд решительный, твердый. До войны, видать, людьми распоряжался. Возможно, был бригадиром в колхозе. Потребовать сможет не хуже любою офицера. И я твердо решил остановиться на нем. Подзываю его.
Мы поговорили с ним по душам. Я ободрил его. Сказал, если лейтенанты порой командуют полками, то толковому рядовому бойцу в определенных условиях командовать ротой сам Бог велел.
Боец ответил без колебаний:
— Есть, товарищ политрук, принять командование ротой!
К фронтовой жизни привыкаешь быстро. Стрекотня автоматов, буханье пушек скоро становится обычным делом. Привыкаешь к двухразовому питанию, к ночлегу на снегу под соснами. Привыкаешь и ко всяким неожиданностям, которыми полна фронтовая жизнь.
Не успели мы с Горячевым обосноваться на новом месте, как полк подняли по тревоге и двинули в путь. Куда? Зачем? Ни я, ни Горячев понятия об этом не имели. Идем: я — впереди, он — за мной. У нас еще и оружия никакого нет. Топаем по снегу без дороги. Ноги вязнут, цепочка людей растянулась более чем на километр. Так шли больше часа. Вдруг все остановились: справа бьет артиллерия. Чья? Наша или финская? Сейчас, спустя полвека после войны, я удивляюсь: неужели полковое командование заранее не установило, где чьи пушки, где мы, где противник!
Начальство заспорило. Одни говорят, надо скорее уходить, другие настаивают на разведке. И тут я вдруг попался одному на глаза:
— А ну, быстро разведай, чья это артиллерия! Наша или финская?
Дали мне бойца, невысокого, коренастого, с карабином. Судя по всему, на фронте он не первый день: некогда белый полушубок изрядно замызган. И этот-то серый полушубок на снегу будет виден издалека. Но приказ есть приказ, и мы с ним пошли.
Снег зачерствел, покрылся легкой коркой, идти по нему было нелегко: ступишь, снежная корка сначала держит, а потом нога неожиданно проваливается. Вязнем по колено, но идем. Временами корка не проваливается. Тут уж мы идем быстрее. Пальба пушек все ближе и ближе. Но сами пушки пока не видны. И вдруг к этим звукам прибавился свист пуль. Мы обнаружены, по нам ведут огонь. Значит, пушки-то финские... Мы падаем на снег.
— Все! — панически бормочет боец. — Сейчас нас финны прикончат. Пока целы, ползем обратно.
— Обратно? Нет! А что мы доложим?
— А то и доложим, что нас заметили и обстреляли. Впрочем, ты как хочешь, а я уползаю. Слышишь? Пули свистят уже над головой. Поползли! Если не убьют, то в плен возьмут как миленьких.