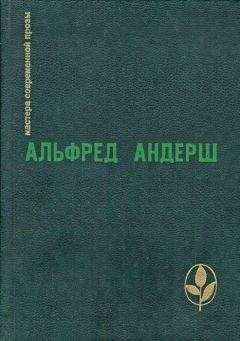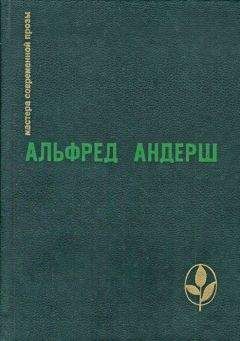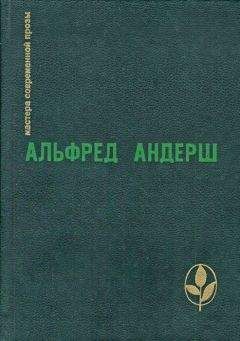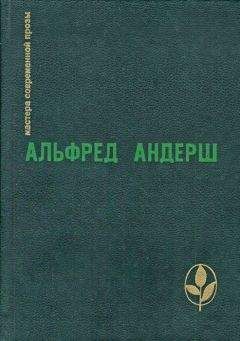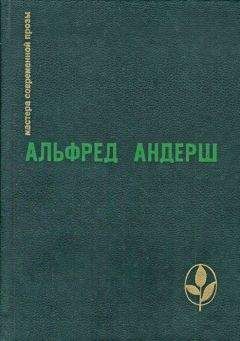Райдель был вне себя, когда его не взяли в группу, которая получила задание изгнать американских рыболовов с берега Ура. Его рапорт отклонили. Он подал жалобу. Фельдфебель Вагнер пожал плечами и сказал:
— Очень сожалею, Райдель, но на сей раз у вас номер не пройдет.
И потом Вагнер, к безмерному удивлению Райделя, выбрал самых больших болванов в части (3-й взвод 2-й роты), сплошь зеленых юнцов — и среди них Борека, — которые в жизни еще не видали движущейся цели.
— Задание для новобранцев, чтобы могли проявить себя, — сказал Вагнер, слегка смущенный. — Приказ из батальона.
Когда молокососы вечером вернулись в расположение, Райдель спросил:
— Ну, скольких уложили?
Он слышал пальбу, стоя в своем окопе, — он был очень зол, что ему не дали участвовать в стрельбе по мишеням. Вместо него выбрали этих болванов!
— А мы не знаем, — ответил один из них.
По их физиономиям он понял, что ни одного попадания у них не было.
Шефольд обрадовался, когда эта рыбная ловля на Уре кончилась. Он привык рассматривать долину, где находился Хеммерес, как нейтральную зону-«моя нейтральная полоса», говорил он Кимброу — и потому относился к американским солдатам, стоявшим неподалеку от деревни среди прибрежного кустарника и удившим рыбу, с неодобрением, как к воюющей стороне, вторгшейся в какую-нибудь Швейцарию, пусть даже только для того, чтобы заниматься браконьерством. Они нарушали его мир. Теперь они исчезли, и двор и луга казались еще более пустынными, чем обычно, под осенним солнцем, падавшим в долину, которую обступили тенистые склоны. Только из отверстий туннеля по обеим сторонам виадука давно заброшенной железной дороги Сен-Вит-Бургрейнланд, что в северной части пересекала долину, иногда показывались, словно кукушки в распахнувшихся створках старинных часов, крошечные фигурки людей: слева — в мундирах цвета хаки, справа-в серо - зеленых, — появлялись и снова исчезали в черноте. «Хлоп! — думал Шефольд, когда чернота смыкалась за ними. — Жаль, — думал он, — что не звонят при этом колокола, как на башне замка в Лимале».
Майор Динклаге с большим интересом слушает, когда Кэте Ленк рассказывает ему, что Венцель Хайншток-марксист. Он очень хотел бы познакомиться с ним, но по соображениям личного характера, а также по причинам, связанным с техникой политической подпольной работы, встреча Динклаге с Хайнштоком так и не состоится. (Хайншток не в восторге от того, что
Кэте вообще назвала майору его имя. «Ни одно звено в цепочке, — говорит он, — не должно знать никаких других имен, кроме тех, с кем оно непосредственно связано. Ну, да ты, конечно, об этом понятия не имеешь, — добавляет он. — Да и откуда тебе знать, как вести себя на нелегальной работе. Если бы ты мне сказала хоть слово, прежде чем…» Он умолкает, ибо видит, что Кэте закрыла лицо руками.)
Поскольку первая половина студенческой жизни Динклаге пришлась еще на период Веймарской республики — об Оксфорде и говорить не приходится — и поскольку он занимался политэкономией, он, разумеется, изучал и марксизм. Маркса, наряду с Рикардо и Вальрасом, он считал ученым, который представил законы развития капитализма в наиболее чистом виде, настолько чистом, насколько это вообще возможно, ибо вполне естественно, что всегда остается нечто такое, чего нельзя объяснить. Описание этого «остатка» — психологического стимула страстей, приводящих в движение экономику, — Динклаге нашел у Парето. Он все время колебался между циничным учением Парето об «остатках» и гуманистической идеей Маркса о самоотчуждении человека. Он охотно присоединился бы полностью к последней, но не мог убедить себя, что самоотчуждение может быть устранено лишь путем изменения формы собственности на средства производства.
Он не обманывал себя относительно заинтересованности крупных предпринимателей в большом бизнесе, связанном с войной. (Его отец был в этом смысле белой вороной. Да и кирпичные заводы семьи Динклаге, видит бог, не относятся к крупной промышленности.) И все же Динклаге не считал, что война, подобная этой, входила в намерения предсказанных Марксом монополий. (С весьма актуальным развитием Марксовой теории накопления капитала в ленинских тезисах об империализме ему уже не довелось познакомиться.) При всем своем потрясающем уме господа, которые ими правили, были столь недалекими, что воображали, будто может существовать военная конъюнктура без войны. Они хотели съесть пирог и в то же время оставить его целым. Но если не считать подобного рода субъективного алогизма, то мировая война — так полагал Динклагене соответствовала интересам и тенденциям крупного капитала. Им скорее соответствовала — если уж мыслить марксистскими категориями — становившаяся все более изощренной эксплуатация, так сказать, мировая культура эксплуатации, мирная жизнь в рабстве, исполненном наслаждения, в условиях широкой свободы мысли, но никак не катастрофа.
Но если эта война возникла не в результате якобы автоматически действующих законов экономики, то в результате чего же? Динклаге, перед которым вставал этот вопрос, не искал глобального ответа, он отступил: человек — это существо, воплощающее и детерминированность, и случайность. Он — плод происхождения, среды, воспитания, биологической конституции и заложенных в нем физических комплексов. Внутри этого заранее заданного сочетания факторов господствует чистейшая случайность, больше того: сами эти факторы — результат случайных обстоятельств. То, что какой-то мужчина двести лет назад встретил какую-то женщину, именно эту, а не другую, было случайностью, но повлияло на жизнь потомка двести лет спустя. Социальный упадок или травматический шок, вызванные случайностью, неверной реакцией на обесценение денег или на пожар, через многие поколения еще сказывались на так называемых судьбах. Даже внешне совершенно свободные поступки — кто-то решил подняться на гору или прочитать книгу-представляли собой условные рефлексы. Но об этом еще можно было спорить, а вот то, что появление фигуры, подобной Гитлеру, было результатом возведенного в квадрат нагромождения наследственных данных и слепого господства того вида случайностей, который именуют мировой историей, — вот это не вызывало ни малейшего сомнения. Но как именовать то бытие, в котором перепутались, непостижимо переплелись естественные закономерности и чистый произвол? Оно именовалось хаосом. Динклаге сознавал существование хаоса. Только хаос мог ему объяснить, откуда берутся монстры.
Конечно, даже среди хаоса и монстров возможны были этические решения, выбор между добром и злом, существовала совесть. Это было последнее, что сохранил Динклаге из своего католического воспитания. «По-видимому, — с иронией думал он, — это тоже связанный с Эмсом условный рефлекс».
Однажды с ним приключилось следующее: присутствуя вместе с другими офицерами на служебном совещании, он указательным пальцем правой руки, которой ухватился за стул (потому что его мучили боли), незаметно для других написал на нижней стороне сиденья какое-то слово, возникшее в разговоре, ну, допустим, слово «батальон». (Какое это было слово, значения не имеет.) Он делал это уже не раз, и у него стало чуть ли не манией писать слова, причем всегда прописными буквами и так, чтобы другие не могли понять, что он пишет, но на этот раз ему вдруг показалось, будто происходящее сейчас со временем не исчезнет, Даже в бесконечности. Невозможно было вообразить, что всякий след надписи и создавшего ее усилия будет начисто уничтожен и забыт. Еще во время совещания он записал на бумажке дату и время (3 октября 1944 г., 11.20), рядом то самое слово («батальон»?) и сунул бумажку в левый нагрудный карман своего мундира.
Ночью ему приснилось, что он оказался возле рыночной площади великолепного средневекового города. В глубине виднелись дома, полные загадочного величия, с уложенными наискось балками — темно-коричневая касается белой: ему снились цвета. Когда он захотел выйти на площадь, чтобы поближе ее рассмотреть, двое вооруженных солдат с винтовками наперевес, в мундирах какой-то современной, но неведомой армии преградили ему путь. Пришлось удовольствоваться малым — обойти площадь по краю, где расположились кукольники со своими театрами, на сцене которых полно было марионеток и всякой мишуры.
Во время ночных обходов, которые Динклаге никогда не передоверял командирам рот, он, поднявшись в сопровождении унтер-офицера и связного на вершину холма, останавливался и осматривал местность. Ночи были ясные, небо усеяно звездами. На его участке все было спокойно, и южнее, там, где располагалась соседняя дивизия, тоже царила тишина и ничего не было видно. Где-то поблизости вполголоса переговаривались из своих окопов двое солдат. Чуть севернее, по ту сторону Иренской долины, где фронт 416-й дивизии поворачивал к востоку, поскольку американцы захватили выступавший вперед — если смотреть с их позиций — гребень Шнее-Эйфеля, иногда вдруг взлетала осветительная ракета и снова гасла. Только далеко с севера, из-за Шнее-Эйфеля, до них доносился грохот артиллерии и виднелись вспышки света. Что это было? Отблески пожаров? Прожектора? Сброшенные с самолетов сигнальные ракеты, которые, промелькнув, рассеивались, превращаясь в призрачные отсветы? Как сообщали, какая-то американская часть медленно пробивалась там к плотине, перегораживающей долину Урфта. Здесь же, где находились Динклаге и его подчиненные, деревья и лес были окутаны непроглядной, лишенной всяких цветовых нюансов тьмой. Порой, стоило майору Динклаге подумать о том, что здесь в черноте ночи, бесшумно или под грохот артиллерийской канонады, противостоят друг другу две огромные армии, ему начинало казаться, что не только разведгруппа его подразделения, действовавшая, вопреки желанию полковника Хофмана, весьма вяло, но и вообще весь комплекс присущих войне и предписываемых уставом действий есть не что иное, как гигантская игра в индейцев. Сражения мальчишек во дворе кирпичного завода — не больше! Он вполне мог себе представить, что сотни тысяч людей, которые сейчас, переговариваясь шепотом в темноте или почти засыпая, стоят в своих окопах, поднимутся оттуда и под усеянным звездами небом разразятся ужасающим смехом, прежде чем отправятся домой, к своим школьным заданиям.