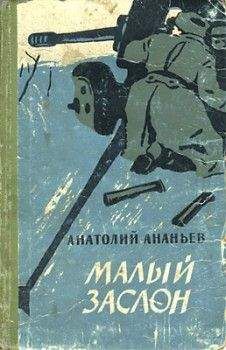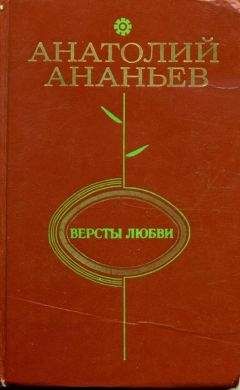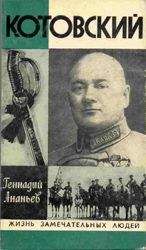Подпоясавшись, Опенька перекинул через плечо противогазную сумку, взял автомат и каску и пошёл вслед за старшиной к двери.
— Так я про сон: приснится же такое…
— Ты, Опенька, кроме баб, что-нибудь во сне видишь или нет?
— Как? Конечно, вижу. Третьего дня кума мне приснилась, и так приснилась, скажу тебе…
— Болтун ты, тьфу. Смени Щербакова и стой до утра. Точка!
Опенька остался один среди ночи, среди непроглядной тьмы, плотно спеленавшей землю. Он прохаживался вдоль стенки сарая от угла до угла, проклиная ночь, немцев и старшину, который так некстати разбудил его и поставил на пост. «Злой человек этот старшина, вредный, — рассуждал Опенька. — На кой ляд мне торчать здесь? Мы в тылу, и немцы — бог знает где. От кого охранять? От своих? Себя от своих? Какой же это порядок! Приехал в тыл, значит, спи, отсыпайся вволю за прежний недосып. Да к тому же, здесь весь полк стоит, тут часовых, как грибов после хорошего дождя. Вот и пусть стоят, охраняют, а у нас бы можно и не тревожить людей. Был бы хороший старшина, взял бы да и сказал: „Спи, мол, брат Опенька, храпи в полную волю, сколько твоей душе угодно — про запас спи“. И спал бы Опенька, и храпел бы во все ноздри, да на куму любовался. Эх, шельма, и приснилась же!.. Он ходил и улыбался, занятый своими мыслями, а на востоке светлой полоской пробивался рассвет. Утро наступило быстро, сгоняя синие тени с опалённой, изрытой лопатами и снарядами земли. Даль распахивалась, и темень спадала, стекалась в воронки и выбоины, и перед Опенькой открывалась страшная картина разрушенного немцами большого белорусского села. Сначала он разглядел стену, вдоль которой ходил, — стена была так испещрена пулями и осколками, что, казалось, кто-то стремительно провёл по ней огромной когтистой лапой; затем увидел глубокую воронку посреди двора и сникший над ней расщеплённый хобот колодезного журавля; увидел плетень в крапиве, а за плетнём — сбегавшие по огороду к пруду неглубокие стрелковые окопчики. Они ещё не успели зарасти и ясно выделялись на фоне пожелтевшей, примятой солдатскими сапогами травы. Два ближних окопчика были раздавлены прошедшим через них танком. Опенька проследил взглядом, куда тянулся гусеничный след, и увидел танк. Наш танк — Т-34. Чёрный, с развороченной башней и размотанной ржавой гусеницей, он и теперь, смолкнувший навсегда, был страшен, — он нёс на себе нанизанные на ствол обломки чьей-то тесовой крыши…
Над чёрными, обугленными стропилами колхозной фермы поднялось солнце. Опенька разом окинул взглядом село: там, где ещё недавно стояли избы колхозников, парила прибитая дождём зола. Сиротливо, как надгробные плиты, возвышались над грудами остывших головешек обгорелые печные трубы. Ветерок сметал к ним мусор и жёлтые листья.
Опенька смотрел на грустную картину бессмысленных разрушений, машинально скручивал цигарку.
В сарае проснулись разведчики; один за одним они выходили во двор, потягиваясь и жмурясь от яркого солнца. Вскоре пришёл старшина и разрешил Опеньке идти отдыхать.
— Какой теперь отдых, — недовольно проворчал разведчик.
— Ложись и спи, глядишь, ещё какая-нибудь кума приснится.
— Э-э, — отмахнулся Опенька и направился к разведчикам, гревшимся у солнечной стенки сарая.
На батарее все уже знали, что полк отправляют на переформировку, и даже знали куда — в Новгород-Северский, и были довольны и веселы. Собравшись у стены, разведчики подшучивали над батарейным санитаром Иваном Ивановичем Силком, уговаривали его отнести сумку с красным крестом новой санитарке. Силок противился.
— Да вы что? Никаких приказаний не было. Кто сказал, что она у нас санитаркой будет?
Опенька сразу оживился, сощурил плутоватые глаза, соображая, что к чему, протиснулся в самый центр и, звонко хлопнув Силка по плечу, сказал:
— Это, друг мой, вопрос решённый!
— Ты что, старшина? Ты-то откуда знаешь?
— Поверь мне: точно говорю. Иди, не жди команды, это будет, знаешь, твоя инициатива! Она — баба, она разом ухватится за сумку. Ты учти такое дело: или тебя мужик перевязывает, или баба — большая разница. Скажем, к примеру, умираешь ты, а увидел бабу — жив! Так, брат, в тебе кровь заиграет, не хочешь, да будешь жить. То-то. А кому интересно на твою корявую рожу смотреть, когда осколком руку снесло и кровь хлещет? От одного твоего картофельного носа хоть в могилу полезай… Так что бери сумку и не трусь, пойдём вместе, если хочешь.
Силок покраснел, с тоской посмотрел на разведчиков. У него было рябое, изъеденное оспой лицо и мясистый, действительно, как картошка, нос, и это всегда удручало его.
— Пойми, — продолжал Опенька. — Вот ты ранен, допустим, и ранен тяжело.
— Отстаньте вы от человека, — вмешался угрюмый Щербаков.
— Не лезьъ под руку, не твоё дело. Так вот, Иван Иваныч, скажем, ты ранен, и осталось тебе жить, ну, пять минут. А я, значит, подбегаю к тебе с этой вот твоей сумкой, наклоняюсь…
— Да, только перед смертью на тебя и смотреть, — ехидно вставил Щербаков. — При жизни-то всю душу воротит.
— Так вот, Иван Иваныч, — не обращая внимания на Щербакова, продолжал Опенька. — Иди и отдай сумку, всей батареей на тебя молиться будем.
— Иди, чего тут, — поддержал разведчик Карпухин. — Дело говорит Опенька. Сдай сумку, а мы тебя в свой взвод заберём.
Разведчики зашумели:
— Возьмём!
— Возьмём, возьмём! Иди!
— Отдашь сумку — и все. Ну, скажешь пару слов.
— Может, стесняешься один, так пойдём вместе, — снова предложил Опенька и взял Силка под руку. — Проводим его, Карпухин?
— Проводим!
Разведчики почти насильно взяли под локти санитара, сунули ему в руки сумку и под общие одобрительные крики повели через двор к избе. Возле крыльца, в оставленном хозяевами корыте Майя стирала гимнастёрку.
— Не могу я, братцы, — твердил смущённый санитар, но все же шёл, держа перед собой сумку.
— Мужайся, мужайся, Иван Иваныч, подвиг совершаешь! — подбадривал Опенька.
— Крепись, — вторил Карпухин, стараясь казаться серьёзным.
Они подошли к Майе. Она стояла к ним спиной и продолжала стирать. Над корытом мелькали её оголённые локти, белая пена хлопьями падала на землю.
— Ну, — подтолкнул в бок Ивана Ивановича Опенька.
— Начинай, — прошептал Карпухин.
Санитар, как немой, делал знаки, что он не может, или, вернее, не знает, с чего начать.
Опенька кашлянул, и Майя быстро обернулась. Она удивлённо взглянула на солдат: «Трое?., С санитарной сумкой?» Опенька и Карпухин все ещё держали Ивана Ивановича под локти. Санитар смотрел на расплющенные носки своих кирзовых сапог и молчал. Вид у него был такой жалкий, словно он ранен или, по крайней мере, тяжело болен. Майя так и поняла: они пришли к ней за помощью.
— Что случилось? — спросила она и, стряхнув с рук пену, подошла к Ивану Ивановичу. — Что с вами?
— Болен он, — вместо Ивана Ивановича ответил Опенька.
— Что с ним?
— Вот, жалуется, — едва сдерживаясь от смеха, подтвердил Карпухин.
— На что? — девушка повернулась к нему.
— На что жалуешься, Иван Иваныч? — подтолкнул Карпухин санитара.
Тот продолжал смущённо смотреть себе под ноги. Майя перехватила его взгляд.
— С ногами что-нибудь?
Опенька и Карпухин переглянулись.
— Конечно, на ноги он и жалуется.
— Мозоль у него, прямо замучился парень.
— Снимите сапог, посмотрим. На какой ноге?
— На правой, Иван Иваныч? — спросил Опенька.
— На правой, точно на правой, я знаю.
Говорили все, кроме Ивана Ивановича, а он лишь смотрел на них непонимающими круглыми глазами и в знак согласия (что ему оставалось делать!) кивал головой.
Его усадили на землю и стали снимать сапог.
— Осторожней, осторожней, — приговаривал Опенька, словно действительно боялся, что Силку будет больно. Хоть кирзовый сапог с широким голенищем снимался легко, стаскивали его медленно, бережно поддерживая ногу. Так же осторожно, как повязку с раны, раскручивали портянку. Майя следила за движениями их рук, готовая сейчас же остановить разведчиков, если они начнут отдирать прилипшую к ране портянку.
— Где же мозоль? — удивлённо спросила Майя, и в глазах её мелькнуло подозрение: «Может, насмехаются?..» Она насторожилась.
— Не ту ногу разули, — быстро нашёлся Опенька. — Которая у тебя болит, Иван Иваныч, левая разве?
— Левая, — подтвердил санитар.
— Так чего же ты сразу-то… давай левую…
Сняли и второй сапог. Когда стали разворачивать портянку, санитар вскрикнул:
— Осторожней, ребята!
— Осторожней! — Майя присела на корточки и отстранила руки Опеньки. — Давайте, я сама.
На портянке виднелось мокрое красноватое пятно. Майя осторожно отняла прилипшую к ранке портянку, и все вдруг увидели, что на пятке действительно мозоль, раздавленная и уже превратившаяся в гнойную рану. Опенька подскочил от неожиданности и удивления:
— Ваня!