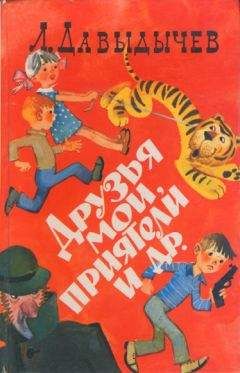— Как это тебя угораздило?
— Впервые в жизни так получилось!
Оказалось, старшина 2-й статьи Задорожный — рулевой с эсминца «Бойкий», отличник. Через неделю — в отпуск домой, и вот из-за этой девчонки — самоволка. Смотался во время культпохода в картинную галерею. А корабль стоит в доке на морзаводе. Туда можно проскользнуть незаметно.
Я пожалел парня:
— Иди! Только не попадайся, а то мне нагорит.
Доброта стоила мне трех суток строгого ареста. Лейтенант записал фамилию задержанного и проверил в комендатуре. Там же меня и посадили после возвращения из наряда по городу.
Вернувшись в училище, я был вызван к начальнику строевой части, полковнику береговой обороны Блохину. Он меня долго отчитывал, а я молчал, рассматривая четыре золотые нашивки с коричневыми просветами на рукаве его кителя.
— А задержанного шпиона вы тоже отпустили бы?
Вопрос показался диким, но полковник и не ждал ответа.
— Вы опозорили училище! Можем попасть в приказ по флоту.
К взысканию, наложенному дежурным комендантом, он добавил «месяц без берега» и выговор «за моральную неустойчивость».
Шелагуров уже знал обо всем. Отчитывать меня он не стал. Только спросил, как я расцениваю свой поступок. Об этом самом я думал трое суток на гарнизонной гауптвахте. Я поверил Задорожному, что он отличник, пожалел его репутацию, поставил себя на его место. И действительно, сам оказался на его месте: испортил свою репутацию отличного курсанта. А как я должен был поступить? С этим вопросом я обратился к Шелагурову.
Он взъерошил свой черный чуб, отошел подальше, словно желая меня рассмотреть получше:
— Да, хорошего воспитанника мне подкинул твой дядька! Задай ему этот вопрос! А вообще, курсант Дорохов, я осуждаю ваш поступок. Идите!
Я не спал всю ночь. Не взыскание огорчало меня. Мучила мысль: как согласовать совесть и долг? Мой отец, наверно, сказал бы: «Для военного человека совесть и долг — понятия неразделимые» — и наказал бы еще пожестче. Ведь если бы на «Бойком» сыграли боевую тревогу, вся группа помчалась бы бегом из музея на корабль, а Задорожный, вместо того чтобы стать к штурвалу, целовался бы в переулке возле почты. Но корабль находился в доке. Он не мог срочно выйти в море. А если бы «Бойкий» стоял на якоре, решился бы тот рулевой на самоволку?
На комсомольском бюро я искренне признал свой поступок неправильным. Ребята вынесли мне выговор без занесения в учетную карточку. Скоро я забыл об этом прискорбном случае, но настало время, когда мне припомнили его.
С ясными голубыми днями возобновились занятия на шлюпках. Это дело было мне по душе! После долгого сидения в классе мы шли на шлюпочную пристань Аполлоновка как на праздник.
— Отваливай! На воду!
Восьмивесельный ял чуть ли не с места набирает ход, и вот уже летим по Севастопольскому рейду, мимо линкора и крейсеров, стоящих на бочках, мимо Михайловской батареи.
Ритмичное поскрипывание уключин, шелест разбиваемой форштевнем воды, журчание струек под килем... Ял идет вдоль берега Северной стороны. А он уже весь зеленый, яркий, каким бывает только в эту весеннюю пору. А вода — светло-голубая и белая, темнеющая вдали.
После такой работы ноет спина, тяжестью наливаются руки. Но ладони уже не болят, кожа стала жесткой и твердой, как у заправского матроса. А после ужина отдыхать некогда, потому что скоро зачеты и надо готовиться к ним. Потом будет практика на корабле и, наконец, отпуск — на месяц домой!
Но вот и зачеты остались позади. Весь наш класс проходил морскую практику на бригаде эсминцев. Такие, как я или Женька Костюков, поначалу не умели даже ходить по кораблю. Голову кружило от восторга и боязни опозориться.
— Со мной не пропадете, салажата! — важно говорил Вася Голованов. — Знаете морскую команду: «Делай, как я»?
И мы действительно старались делать все, как он. Швабрили палубу, лихо подавали бросательные концы, одним прыжком спускались по трапам, вцепившись в поручни, отполированные множеством матросских рук.
Целую неделю мы стояли у Минной стенки. Но все-таки это была уже корабельная жизнь, с корабельными нарядами, с подъемом флага по утрам и его спуском после захода солнца. Команду «Корабль к бою и походу изготовить!» мы ждали, как девушка первого свидания, с веселым нетерпением, к которому примешана изрядная доля страха. Приказ выйти в море обрушился неожиданно, вместе с теплым июльским дождем. А когда дождь прошел, эсминец миновал уже боновые ворота.
Первые мили! Впервые в жизни я увидел Севастополь с корабля. Скрылся мыс Херсонес с маяком, а потом мыс Чауда и неуклюжий утюг — мыс Сарыч.
— Покой — до половины!
Взлетает желто-синий сигнал правого поворота, и эсминец, чуть накренившись, уходит в открытое море, а береговая линия отодвигается влево, мутнеет и исчезает в лиловато-зеленой воде. Как передать ощущение открытого моря, когда ни с какой стороны не видно земли — только волны и облака и светло-зеленая стеклянная дорога за кормой.
В начале моей морской практики я почти не вспоминал ни о доме, ни об Анни. За день уставал так, что только бы добраться до койки. Но разве поспишь вволю? Среди ночи продолжительный звон колоколов громкого боя и голос по трансляции: «Боевая тревога!» Топот ног по палубам. Мы мчимся, кто в робе, кто голый до пояса. Скатываемся, прыгаем с трапов, и вдруг — все затихло. Где люди? Мы все на своих боевых постах, не видать никого. Все задраено, закрыто, и ни огонька. Во мраке кажется, что эсминец не плывет, а скользит над волнами. И моря нет. Только белая накипь. И звезды. Их так много, как никогда не бывает на берегу.
— Торпедная атака!
Ветер рвет с головы бескозырку. В глухом гудении турбин эсминец мчится сквозь плотную тьму к невидимой цели.
— Аппараты товсь! Пли!
Длинное тело торпеды, скользнув из аппарата, летит над водой и погружается. Пошла!
Попали или не попали? Мне кажется, от этого зависит моя жизнь. Нет ничего на свете важнее этой торпеды.
Попали! Об этом объявляется по трансляции. Торпеда прошла под целью. Но еще не все! Учебная торпеда должна всплыть, а потом ее нужно поднять на корабль.
— Смотреть! — кричит старпом.
— Смотреть! — грозно приказывает Шелагуров.
До боли в глазах вглядываюсь в темноту, вцепившись и поручень, но вижу только волны, и вдруг — мерцающий, неяркий огонек среди гребней. Что есть мочи кричу:
— Вижу торпеду! С левого борта — двадцать!
Теперь Шелагуров тоже увидел фосфорный светлячок.
— Молодец! — Он хлопает меня по жесткой робе. — Будешь моряком. В шлюпку!
Честно говоря, страшновато впервые оказаться среди ночи в шлюпке, которую подбрасывает на волнах, но я ни за что не покажу своего страха ни Ваське Голованову, сидящему рядом на баковой банке, ни матросам с эсминца, ни Шелагурову.
Все ближе, ярче фосфорное пламя. Шлюпка то подымается, то проваливается. Шелагуров резко кладет руль право на борт, и я вижу торпеду совсем рядом. Она огрызается оранжевыми вспышками, но мы все-таки берем ее на буксир и, как громадную рыбину, волочим к кораблю. Вот уже опустился в шлюпку трос. Подводим его под торпеду. Пошла!
Я вижу снизу, как красноголовую тушу, поднятую выше борта, несколько матросов подхватывают на широкие рогатины. И вслед за торпедой на талях подымается наша шлюпка, Голованов и другие ухватываются за тросы, помогая своими мускулами быстрее поднять шлюпку. Она раскачивается над волнами, над краем палубы корабля. Вася Голованов, прицелившись, прыгает на палубу. Не помня, что делаю, в паническом восторге я прыгаю вслед за ним, падаю, и тут же чья-то рука хватает меня за ворот. Еще мгновение — и я свалился бы за борт.
Шлюпка уже стоит на кильблоках. Шелагуров надвигается на меня в желтом луче прожектора. Его глаза светятся, как у волка. Он подходит вплотную, тяжело дыша:
— Кто разрешил прыгать?! Герой!
С непокрытой головой стою на скользкой палубе, покачиваясь от усталости и смущения. Моя бескозырка плавает где-то среди волн. Матросы в мокрых робах хохочут. Шелагуров зло застегивает, китель и сдвигает на затылок фуражку. (Как она не свалилась, когда он вслед за мной выпрыгнул из шлюпки?).
— Полyчите взыскание! А сейчас марш в кубрик!
В кубрике темно. Все улеглись. Вася с верхней койки перегибается ко мне и шепчет;
— Завтра покажу, как прыгать, а вообще молодец! Спи!
Но я еще долго не могу уснуть и засыпаю, кажется, за мгновение до того, как быстрые звуки горна повелительно провозглашают подъем. И снова — приборка, проворачивание механизмов, занятия по специальности. Когда же думать о доме?
Перед самым окончанием практики я получил письмо. Мать писала, что отца перевели в город Брест. Он уже получил там квартиру, и теперь наш дом будет в этом городе.
Вот так штука! Конечно, где родители, там и дом, и все-таки жаль расставаться с родным городом, с милой моему сердцу башней и с рекой, на берегу которой я вырос. Но главное — Анни! По дороге в Брест непременно заеду к Анни и поговорю с ней. Нужно решить, как нам быть дальше. Ведь пройдены только первые мили, а сколько еще впереди миль — легких и трудных, тихих и штормовых.