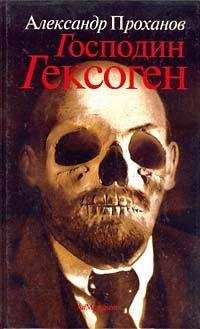Так вот оно что! Ракету пустили с той же крыши, что всегда, но эта крыша находится рядом с крышей того дома, где Павлик только что был.
Он стремглав перебежал улицу, вскочил в парадное и, прыгая через ступеньки, поднимался вверх по лестнице. Окна с выбитыми стеклами не были завешены, и отсветы вспышек от зенитных орудий озаряли лестницу так ярко и часто, что Павлик даже не вспомнил о своем фонарике. Добежав до площадки пятого этажа, он увидел в этом мигающем свете Василия Степановича. Василий Степанович был взволнован до крайности. Шуба на нем была распахнута.
– Я видел!.. – закричал он Павлику еще издали. – Видел через это окно… Случайно вышел на площадку… Зеленый свет… Скорей, скорей! Бежим вместе… Я помогу тебе… На чердак!.. Быть может, он спускается где-нибудь!..
Василий Степанович вместе с Павликом бежал вверх по ступенькам, к чердаку, путаясь в полах своей длинной шубы. Низкая дверь чердака была раскрыта, и они нырнули в нее, пригнув головы.
Непроглядная тьма охватила их.
– Спрячь фонарь, не зажигай! – прошептал Василий Степанович. – Свет может выдать нас. Дай руку, я проведу тебя к окну.
Где-то неподалеку ударила бомба, пол качнулся под ними, ветер хлестнул им в лица, и они едва удержались на ногах.
– Это он выдал им город ракетой, – сказал Василий Степанович.
Ударила вторая бомба, немного подальше. Потом третья, четвертая, совсем далеко. Василий Степанович тащил Павлика за руку к чердачному окну.
– Смотри! Смотри! – говорил он. – Где та крыша, про которую ты рассказывал?
Огромное далекое зарево было за окном, и ту крышу при свете зарева Павлик узнал сразу. Вот она, тут, за узкой пропастью двора, несколько справа. Вот ее крутой скат, обращенный ко двору. Весь скат лежит значительно ниже чердака того дома, где живет Василий Степанович, только самый гребень – на одном уровне с чердачным окном. Как же перебраться отсюда туда или оттуда сюда? Нет, ракетчик проходит не этим путем.
Гул зениток отхлынул и затихал в отдалении, как огромная волна, перекатившаяся через них. Василий Степанович держал Павлика за плечи и втискивал его голову в чердачное окно.
– Погляди, погляди! – говорил он. – У тебя глаза лучше моих. По-моему, там на крыше кто-то есть!
Павлик глядел во все глаза, но никого не видел.
– Хорошенько гляди! Зрение у тебя хорошее? Вон, вон там, слева, у самого края!.. Лежит, шевелится, ползет! Эх, жаль, у меня нет револьвера, я бы застрелил его… Видишь?
– Ничего не вижу, – сказал Павлик в отчаянии. – Там никого нет.
– Не видишь? Ну, значит, меня подводят глаза. Придется скоро очки заводить. Да я и сам теперь никого не вижу… Я ошибся… Это труба или что-то вроде… Я вон тот выступ принял за человека… Но мы его еще выследим с тобой, мы с тобой его еще поймаем!
Через несколько минут Павлик снова сидел в комнате Василия Степановича. В печурке потрескивали щепки, ласково сиял крохотный огонек в коптилке. Эрна лежала с закрытыми глазами.
– Нет, нет, нет, сегодня ты никуда не пойдешь, – говорил Василий Степанович. – Уже поздно, ты будешь ночевать у меня. Ложись вот на этот диванчик и накройся пальто, к утру здесь будет холодно. А я пойду, пойду на минуточку, через площадку, к больному соседу. Пойду посмотрю, не слишком ли он испугался… Он очень боится бомбежки…
Едва Василий Степанович вышел, Эрна открыла глаза.
– Ты давно проснулась? – спросил Павлик.
– Когда бомбили, – сказала Эрна.
– Ты больше не убегай от него, – сказал Павлик. – Это глупости. Мне кажется, он хороший.
Эрна молчала.
– Не убежишь?
– А ты будешь приходить ко мне? – спросила она.
– Буду. Не убежишь?
– Не знаю… Может, и не убегу.
Павлик снял пальто, шапку, ботинки и лег на диванчик. От печурки, раскаленной докрасна, веяло на него жаром. Он давно не спал в таком тепле. Как хорошо! И еще хорошо, что он выполнил свое обещание Василию Степановичу, уговорив Эрну не убегать; что у него замечательный электрический фонарик; что его назвали славным и смелым мальчиком. Все, все очень хорошо! А ракетчика он выследит и поймает.
С этой мыслью Павлик уснул.
– Подъем! – сказал дневальный, заглянув в дверь, и ушел.
Лейтенант Вадим Алексеев проснулся первым. Он вскочил, надел в темноте брюки, унты и повернул колесико своей зажигалки. Зажигалка у него была на редкость крошечная, купленная в Эстонии, и он очень дорожил ею. Алексеев зажег керосиновую лампу на столике, и желтый свет озарил комнату.
Все проснулись. Алексеев достал из чемодана зеркальце в форме сердца, поставил его на столик и стал бриться. Бритье для него было делом сложным: он оставлял узенькие бачки, крохотные усики под носом и тщательно ухаживал за ними. Он очень заботился о своей наружности.
– Вадим, посмотри, какая погода, – сказал Костин. Костин лежал и курил, скинув с груди одеяло, узкий и худощавый, с выступающими сквозь тельняшку ключицами. Алексеев встал и, держа бритву в руке, слегка отодвинул кусок картона, которым загораживали на ночь окно.
– Темно, – сказал он. – Ничего не видно.
– Звезды есть? – спросил Костин.
Все напряженно ждали, что ответит Алексеев. Но сколько Алексеев ни вглядывался, он видел в темном стекле только свое длинное лицо, с бачками, усиками и намыленным подбородком.
– И звезд не видно, – сказал он и снова сел бриться.
– Не полетим сегодня, – тоскливо произнес младший лейтенант Ваня Чепенков и покраснел.
Ваня Чепенков был молчалив и застенчив, и его круглое, почти девичье лицо обладало способностью поминутно и беспричинно краснеть.
– Через окно не разглядишь, – сказал Карякин. Все уже слезли с коек и одевались, и только Рябушкин продолжал лежать.
– Рябушкин, а почему ты не встаешь? – спросил Чепенков вполголоса. И тут только вспомнил, что Рябушкина отстранили от полетов.
– Ему сегодня вместе с Никритиным печку топить, – сказал Карякин, натягивая на себя меховой комбинезон. – Топите жарче, ребята.
Рябушкин повернулся лицом к стене. Карякин почувствовал, что об этом говорить не следовало.
– Никритин, твоя машина все еще не готова? – спросил Костин.
– Нет еще, – поморщился Никритин.
– А чего же ты встал так рано?
– Хочу на командный пункт сходить… Может быть, Батя что-нибудь надумает…
– Он не на командный торопится, а в санчасть, – усмехнулся Алексеев.
После этих слов все замолчали, вспомнив о девушке, которую привез Никритин. Она лежала в санчасти. Вчера вечером она так и не пришла в себя. Кроме Никритина, никто из них ее не видел, но все уже знали о ней.
Никритин был недоволен, что Алексеев разгадал его намерение зайти перед завтраком в санчасть, но не сказал ничего.
Они впятером вышли на крыльцо. Светать еще не начинало. Слегка морозило, дул слабый западный ветер. Стоял туман.
– К полудню разгонит? – спросил Карякин у Костина.
– А черт его знает! Я не колдун.
Они гуськом пошли по пустынной деревенской улице к столовой, и в своих комбинезонах, унтах и шлемах казались неуклюжими, как медведи.
Поравнялись с домиком санчасти. Все ждали – зайдет Никритин в калитку или нет. Никритин зашел.
– И я с тобой, Коля, – сказал Алексеев. – Хочу поглядеть на нее.
Поглядеть на девушку хотелось, конечно, каждому, но Алексеев был бойчее всех.
– Я тоже зайду, пожалуй, – небрежно заметил Карякин.
– Тебе незачем, – остановил его Костин. – Они зайдут вдвоем, и достаточно. Идем в столовую.
Поднявшись на крыльцо, Никритин и Алексеев тщательно счистили еловой веточкой снег с унтов и вошли в приемный покой. Там, за столом, перед маленькой керосиновой лампой, сидели военврач Липовец и медицинская сестра Нюра.
Липовцу было всего двадцать четыре года. Медицинский институт он окончил за неделю до войны. Несмотря на свою молодость, он был почти совершенно лыс и считался очень ученым человеком. Увидев входящих летчиков, он придал своему лицу чрезвычайно серьезное выражение.
Сестра Нюра («толстая Нюра», как ее называли, потому что она была очень толста даже теперь, когда все похудели) встала и от волнения грузно затопала ногами. Особенно взволновал ее приход Алексеева. В него она была влюблена, и все это знали. Молчаливая и неповоротливая, Нюра свои чувства выражала только топаньем.
– Ну как? – спросил Никритин. – Очнулась?
– Очнулась, – ответил Липовец. – Сейчас спит. Ночью стонала. Сильные боли. Отморожены ноги. Я наложил ей повязки с ксероформенной мазью.
– А ноги уцелеют?
– Если не будет заражения. Но дело не в обморожении. Сильное истощение – вот что. Слабая сопротивляемость организма. Не нужно ее будить.
– Я хочу посмотреть на нее, доктор, – сказал Алексеев. – Только посмотреть. Можно?
И, не дожидаясь ответа, он шагнул к двери соседней комнаты, называвшейся палатой.
Толстая Нюра шумно переступила с ноги на ногу: любопытство Алексеева к обмороженной девушке ей не нравилось. Липовец кинулся к двери, чтобы преградить Алексееву дорогу, но было уже поздно: Алексеев приоткрыл дверь, надавив на нее плечом.