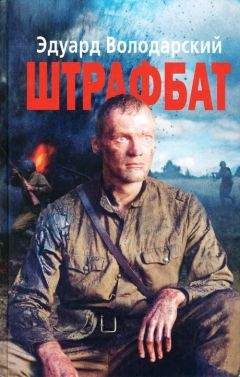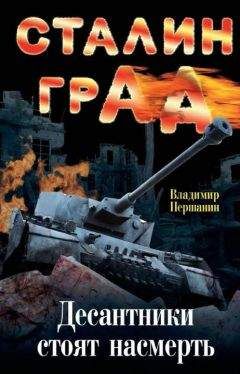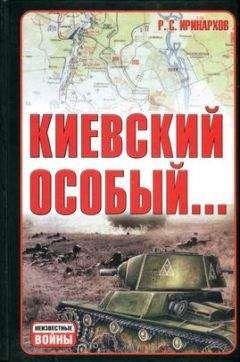— Такие на фронте не нужны!
— А какие нужны? Мы и так — штрафники. К тому же озлобим остальных заключенных, особенно уголовников. Чего полезного тогда от них ждать на фронте?
— Покрываешь?! Убийц покрываешь?!
— Да там почти треть состава убийцы. Я, что ли, брал их в добровольцы?
— Ты назначен старшим по вагону, и за все будешь отвечать ты, — резко отвечал капитан Серегин.
— В других вагонах все тихо-мирно? — спросил Баукин.
— Да нет… — вдруг сморщился, как от зубной боли, Серегин. — Всего тридцать шесть трупов насчитали… Пока до фронта доедем, еще прибавится. Ну вот на кой хрен вы там на фронте нужны? Вы ж, как только немца увидите, сразу в плен сдадитесь! Если до этого не драпанете… Ах ты боже мой, какая только дурость начальству в голову не ударяет!
Федор Баукин молча смотрел на него, потом сказал:
— Я не драпану и в плен не сдамся.
— И много таких в твоем вагоне? — усмехнулся капитан.
— Много.
— Че-то я шибко сомневаюсь, старшой, — покачал головой капитан. — Шибко сомневаюсь…
— Ваше право — сомневаться и не верить, — ответил Баукин.
— Ты мне мои права не вспоминай, ты про свои помни, — махнул рукой капитан.
— Мое право — умереть на поле боя, — чуть улыбнулся Баукин. — Такое право забыть трудно.
…И снова поезд торопился на запад, к фронту. И чем ближе подъезжали, тем спокойнее и задумчивее становились бывшие зэки. Большинство лежали на нарах и на полу, смотрели невидящими взглядами в потолок и каждому вспоминалось давнее и недавнее прошлое.
Одному вспоминалось, как народный судья оглашал приговор, и он, остриженный «под нуль» молодой парень, стоял за дубовым барьером, а по бокам возвышались два милиционера, и в маленьком зальчике народу было совсем немного — мать и другие родственники. И мать, услышав срок, который присудили ее ненаглядному Витюше, рванула на себе волосы вместе с темным в белую крапинку платком и завыла в голос, и родственники бросились ее утешать, а «ненаглядный Витюша» стоял, опустив стриженую голову, и кусал до крови губы…
А другому вспоминалось, как оперативники НКВД уводили его из квартиры. Везде были видны следы обыска, похожего на погром: на полу валялись бумаги, книги, рубашки, пиджаки и брюки, фотографии с поломанными рамками, осколки посуды, вспоротая перина в спальне. Он с улыбкой обнял жену, поцеловал, прошептал на ухо:
— Я скоро вернусь… это чудовищная ошибка… Не волнуйся и жди…
А третьему вспомнилась вечерняя танцплощадка, гирлянды огней, лица парней и девушек… счастливые улыбки, мерцающие глаза — у всех они были тогда лучистыми и счастливыми.
— Рио-Рита… — лился из черного динамика бравурный фокстрот.
А потом к Павлу и Тане подошел парень в кепке, надвинутой на глаза, в белой рубахе с закатанными рукавами, взял девушку за руку и потянул к себе.
— В чем дело? — придержал Павел парня.
— Ша, фраер! Она мне обещала! — Парень в кепке улыбнулся, сверкнув золотой фиксой.
— Не хочу я с тобой танцевать, отпусти! — Девушка пыталась вырвать руку, но парень держал крепко. И вокруг них незаметно образовалось кольцо из таких же парней в кепках.
— Танюха, не выпендривайся. — Парень с силой дернул ее к себе.
— Отвали от нее, — вскипел Павел и загородил собой девушку.
— Может, отойдем? — вновь осклабился парень.
Они отошли за площадку, куда смутно доставал свет гирлянд с лампочками, драка вспыхнула мгновенно. Павел был явно сильнее парня и пару раз свалил его на землю, и тогда тот выдернул из кармана складной нож, надавил кнопку, и из рукоятки выскочило длинное узкое лезвие. Наклонившись, парень бросился на Павла, и тот едва успел перехватить руку с ножом. Дружки парня стояли вокруг кольцом, мрачно наблюдали.
Уловив момент, Павел дал парню подножку, и они упали. Павел вырвал нож из руки парня и, уже с трудом понимая, что делает, в ярости ударил его ножом в грудь. И тут же отпрянул, со страхом глядя, как на левой стороне груди сквозь рубаху проступает яркое кровавое пятно…
Добровольцев-зэков выгрузили на небольшой, полуразрушенной бомбежками станции на двести километров севернее Сталинградского фронта. Теперь громыхание фронта было совсем близко — слышались даже отдельные орудийные выстрелы, взрывы снарядов и гул самолетов.
Вдоль неровного строя штрафников шел бывший майор Твердохлебов, шел медленно, вглядываясь в лица. Вдруг опустил глаза и увидел босые ноги по щиколотку в грязи.
— Чего босой-то? — спросил Твердохлебов.
— Да как-то так… — смутился мужик. — Может, тут выдадут?
— Тут дадут, во что кладут… Ты хоть лапти себе какие сооруди… — пробормотал Твердохлебов и пошел дальше. Снова остановился, посмотрел в лицо Лехи Стиры, спросил: — Статья у тебя какая?
— Сто четырнадцатая. Мошенничество, — широко улыбнулся Леха.
— Я так и подумал, — сказал Твердохлебов. Взглянул на рядом стоящего аккуратно застегнутого на все пуговицы изношенной телогрейки человека со строгим лицом, в очках, проговорил полувопросительно:
— А у вас, как я понимаю, пятьдесят восьмая?
— Так точно, — подтянувшись, ответил человек в очках.
— В каком году арестованы? Тридцать седьмой, тридцать восьмой?
— Так точно, в тридцать восьмом.
— А зовут?
— Абросимов Анатолий Павлович, школьный учитель. Преподавал алгебру и геометрию в старших классах.
— Ладно… — Твердохлебов опять пошел вдоль строя. Вдруг остановился, отступил на шаг и крикнул, указав рукой в сторону фронта:
— Слышите?! Там пушки и пулеметы стреляют! Там кровь льется рекой! Там люди гибнут! Защищают родину! Вот и вы так будете защищать! Забудьте, что было раньше! И кем вы были раньше — забудьте! Теперь на вас смотрит мать-родина! С надеждой смотрит!
Строй молчал. Люди переминались с ноги на ногу, смотрели на Твердохлебова. И тот тоже замолчал, переводя дыхание, потом добавил громко, но уже спокойно:
— Внимание, штрафники! Я ваш батальонный командир. Вы пополнение в мой батальон! Напоминаю? За невыполнение приказа — расстрел на месте! За нарушение воинской дисциплины — расстрел на месте! За проявление трусости — расстрел на месте!
Твердохлебов смолк. И тогда из строя раздался голос:
— А кроме расстрела еще чего-нибудь есть, гражданин батальонный командир?
И негромкий смешок прокатился по шеренгам. И тут же другой голос крикнул:
— Когда оружие выдадут?! Или голыми руками фашиста душить будем?!
— Оружие получите на передовой!
— А жрать когда дадут?!
— Жрать получите тоже на передовой! Батальо-о-он, смирна-а-а!! В колонну по трое! Шагом ма-а-ар-рш!
Шеренги стали неуклюже перестраиваться, зашагали совсем не в ногу.
Раскисшая от дождя дорога, со множеством размытых колей от автомобильных колес и танковых гусениц, ползла через поле к лесу, за которым все громче слышалась канонада.
Твердохлебов шел сперва впереди колонны, потом задержался, постоял, глядя, как мимо него идут лагерные добровольцы. Тяжело вышагивал вор в законе Глымов, глядя перед собой невидящими глазами и думая о чем-то своем; легко шел Леха Стира, топал гармонист Шлыков, закинув за спину обернутую дерюжкой свою бесценную гармошку, шли рядом бандиты Цыпа и Хорь, шли политические, распрямив плечи, смотрели поверх голов вдаль. Баукин… Пономаренко, который рассказывал, как у него умерла вся семья от голода… Сергунько… Точилин… и еще… и еще лица… с задубевшей бронзовой кожей, с выпирающими скулами и впалыми щеками… Что было для этих людей радостью и что горем? Что было для них жизнью, а что — смертью? Так туго и запутанно переплелись они в их судьбах, что уж и не отличить одно от другого. Сколько раз они умирали и оживали, снова умирали и снова оживали…
— Что ты нас глазами сверлишь, комбат?! — громко спросил Точилин. — На подвиги идем!
— Готовь ведро орденов!
— И водки ведро! С закусью!
— Ох мы тебе и навоюем, комбат, ох и навоюем!
И по колонне прокатился ехидный смех.
Твердохлебов улыбнулся, покачал головой и вдруг гаркнул:
— А ну, песню давай, ребятушки! Давай песню!
В колонне снова рассмеялись, потом залихватский тенор пронзительно запел:
Какой же был тогда мудак —
Пропил ворованный пиджак…
И десятки глоток дружно подхватили:
И шкары, ох, и шкары, ох, и шкары!
Теперь, как падла, с котелком
Бегу по шпалам с ветерком…
И опять десятки глоток подхватили:
По шпалам, ох, по шпалам, ох, по шпалам!
Прошли сотню-другую метров, и зазвучала новая песня, хватающая за сердце черной тоской и беспросветностью:
Идут на Север срока огромные,
Кого ни спросишь, у всех Указ,
Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,
Взгляни, быть может, в последний раз.
А ты стоять будешь у подоконничка,
Платком батистовым ты мне махнешь,
Прощай, прощай, подруга моя верная,
Ты друга нового себе найдешь!
И завтра утром покину Пресню я,
И по этапу пойду на Колыму,
И там, на Севере, в работе семитяжкой,
Быть может, смерть свою найду.
Друзья накроют мой труп бушлатиком
И на погост меня снесут,
И похоронят душу мою жиганскую,
А сами тихо так запоют:
Ох, Крайний Север, срока огромные,
Кого ни спросишь, у всех — Указ…
Твердохлебов шагал рядом с колонной, слушал, морщился, но запретить петь язык не поворачивался. Какие люди, такие и песни, что уж тут поделаешь? Но в эту секунду другой голос, густой и угрюмый, вдруг загремел, заглушая блатную песенку: