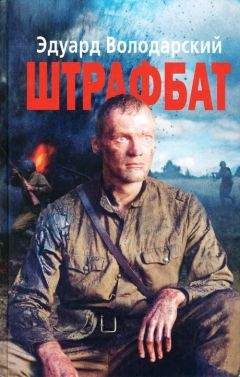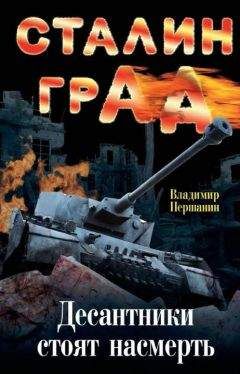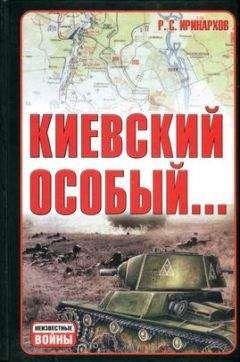— Ну, положим, ты эту власть тоже… очень любишь, — проговорил Твердохлебов. — Зачем тогда добровольцем вызвался? Сидел бы в лагере… ты в законе, не работал, ел сытно, спал сладко, срок догорал. Зачем пошел?
— Ел сытно, спал сладко? — Глымов с усмешкой взглянул на Твердохлебова. — Я тебе горбатого лепить не буду, комбат, я тебе напрямки скажу — окромя советской власти еще мать-родина есть, земля родная… Ты думаешь, ежли вор, то ничего святого у меня нету? Да поболе, чем у тебя, комбат. Я вот родом с-под Орла, из села Ивантеевка, а там теперь немец хозяйничает, а у меня там мать-старуха, сестренка совсем малая — это мне хуже ножа в сердце… Не пойму что-то, комбат, до тебя доходит, че я трекаю, или мимо ушей пропускаешь, как все советские начальники?
— Значит, заметано, — хлопнул себя по коленям Твердохлебов и поднялся. — Выйдем на пару минут.
— Во пахан врезал комбату, — с торжеством проговорил Леха Стира, когда Твердохлебов и Глымов вышли. — За милую душу!
— Ты лучше сахарком бы поделился, шулер, мать твою!
Плотная темнота окружала позиции штрафников. В окопе на охапках соломы сидели несколько человек. В темноте светились живые огоньки цигарок.
— Ты это… насчет власти попридержи язык, Глымов, — негромко проговорил Твердохлебов.
— За себя боишься, начальник? — усмехнулся Глымов.
— За тебя. Кто-нибудь стукнет в заградотряд, приедут, захомутают и…
— Шлепнут? — перебил Глымов.
— Именно так. За антисоветскую агитацию и пропаганду, — подтвердил Твердохлебов. — А я хочу, чтоб ты воевал, Глымов. Ты хорошо воевать будешь.
— Два дня. — Глымов плюнул на ладонь, загасил в слюне цигарку и окурок спрятал в карман. — А на третий убьют.
— Глядишь, пронесет.
— Стал быть, на четвертый убьют, — сказал Глымов.
— Ну вот, заладил, как тетерев на току. Тебе так погибнуть охота?
— Не скажи, еще малость пожил бы… — вздохнул Глымов, глядя в глухую темноту, в ту сторону, где вдалеке затаился враг.
— Так и живи, Антип Петрович, — сказал Твердохлебов. — Живи врагам назло.
— Получается так, комбат, что враги у меня и спереди и сзади.
— Не один ты такой красивый. У всех у нас, — нахмурился Твердохлебов.
— У кого у всех? — глянул на него Глымов.
— У штрафников…
И в это время вновь засвистели в черном небе мины и взрывы заухали совсем рядом. Раз, два, три, четыре… потом минутный перерыв, и снова — раз, два, три, четыре, пять…
Они лежали на дне окопа рядом с другими штрафниками, обнявшись, как родные, и земля сыпалась им на спины, и Глымов при каждом взрыве бормотал:
— Во дает, туды-т твою… во дают, сучьи выродки…
— Дурят фрицы… — отозвался Твердохлебов, — небось спросонья дурят.
Минометный обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. Наступившая тишина показалась еще оглушительней, и ночь чернее. И как спасение из глубины окопа донеслись протяжные звуки гармоники. Над полем, разделявшим две армии, поплыла печальная мелодия:
Степь да степь кругом, путь далек лежит,
В той степи глухой замерзал ямщик…
Но сразу же, заглушая тягучую печальную мелодию, глухо и сильно застучал пулемет. Трассирующие пули синими и красными стрелами полосовали ночную темень, улетали вглубь.
Рано утром, когда штрафникам раздавали горячую пшенную кашу из полевой кухни и сухой паек, в расположение батальона прикатил обшарпанный, весь в дырках от пуль, с многочисленными вмятинами «виллис» с открытым верхом. Из машины выпрыгнул подтянутый майор Белянов, спросил у штрафников, стоявших в очереди за кашей:
— Комбат где, ребята?
— А вона блиндаж в низинке. Правее идите — там тропка есть.
Майор углядел тропку, ведущую к окопам, и бодро зашагал вперед. Шинель его была расстегнута, и при ходьбе сверкали на груди орден Боевого Красного Знамени и несколько медалей.
Твердохлебов пил чай, сидя у буржуйки. В углу у рации сидел радист и ординарец Митька Сенников, бывший студент истфака МГУ, штопал суровой ниткой телогрейку.
— Хватит чаи гонять, комбат, — еще в дверях сказал Белянов. — Поехали! В штабе дивизии ждут.
Твердохлебов поставил кружку на снарядный ящик, заменявший стол, поднялся и стал надевать телогрейку.
Беляновский «виллис» трясло немилосердно, и слова отлетали куда-то в сторону.
— Ну как пополнение, Василий Степаныч?
— Нормальное. Другого не ждал, — ответил Твердохлебов.
— Я уже тебе говорил и еще раз скажу, — наклонившись к Твердохлебову, опять закричал ему в ухо майор Белянов. — В атаку пойдете — вперед не лезь, понял?! У наших соседей тоже штрафники на левом фланге стоят — комбат там Игорь Тоболкин был…
— Был?! — переспросил Твердохлебов.
— В атаку людей поднял, вперед полез — кто-то ему в спину и шмальнул! — кричал майор Белянов. — Наповал! Ты его знал?
— В штабе дивизии встречал пару раз. Хороший человек… надежный…
— Нету больше надежного человека! По своей дурости! Я и тебе для чего говорю — чтоб не лез наперед всех! Поостерегся!
— Я воробей стреляный, — улыбнулся Твердохлебов.
«Виллис» петлял по лесной дороге и скоро выскочил на небольшое поле, поперек которого тянулись земляные брустверы с торчавшими рылами пулеметов. Дальше виднелась минометная батарея, стоял танк, и полно было солдат НКВД.
«Виллис» въехал в редкий перелесок. Над большим блиндажом был натянут маскировочный полог и выставлена охрана. Водитель Белянова поставил машину рядом с «газиками» и «виллисами», на которых приехали командиры других полков и артдивизиона дивизии. Белянов и Твердохлебов выпрыгнули из машины, зашагали к блиндажу.
Они спустились по земляным ступенькам в блиндаж. Командиры полков, стоявшие вокруг длинного, сколоченного из грубо обтесанных досок стола, при их появлении разом обернулись.
— Вы опоздали на три минуты! — раздался голос командира дивизии Лыкова. Подняв голову от расстеленной на столе оперативной карты, он строго смотрел на вошедших.
— Виноват, товарищ генерал, — вытянулся и щелкнул стоптанными каблуками сапог Белянов. — Проверял боеприпасы личного состава батальона, запоздал.
— Твердохлебов, ты тоже боеприпасы проверял? — спросил генерал.
— Никак нет. Моему пополнению до сих пор оружие не выдали.
— Как так? — Лыков вопросительно взглянул на майора с малиновыми петлицами. — Значит, завтра штрафники в атаку безоружными пойдут?
— Заминка вышла, товарищ генерал. К вечеру пополнение штрафников получит оружие, — ответил майор НКВД Харченко, кашлянув в кулак.
— Твердохлебов, иди-ка поближе! — позвал генерал.
Офицеры раздвинулись, освобождая Твердохлебову место. Оперативная карта с двух сторон освещалась снарядными гильзами со сплющенным верхом и воткнутыми в них фитилями.
— Смотри, Твердохлебов… — Палец генерала полз по карте. — Вот здесь после артподготовки твои люди пойдут на прорыв.
— Там же минное поле, — невольно вырвалось у Твердохлебова.
— Его еще вчера разминировали, — ответил генерал и продолжил: — Твои люди должны зубами вцепиться в позиции немцев, захватить их и удерживать во что бы то ни стало, понял? Немец будет пытаться тебя выбить, а ты будешь держаться и притягивать к себе все новые и новые силы фрицев. А главное направление атаки будет левее — там пойдут батальоны Белянова. Слышишь, Белянов?
— Так точно! — гаркнул перепуганный Белянов.
— К тринадцати ноль-ноль ты должен взять высоту 114 и дать возможность пройти танкам Кудинова…
— Но там минное поле. Его никто не разминировал, — снова негромко перебил Твердохлебов.
Стало тихо. Генерал оторопело смотрел на Твердохлебова, потом перевел взгляд на майора НКВД, спросил:
— Как не разминировали?
— Не успели… товарищ генерал, — неохотно ответил майор Харченко. — Саперов не было.
— К-как не успели? К-как не было? Да вы что, майор? Завтра наступление… Приказ уже подписан командармом… Вы соображаете, что говорите? Да я вас…
— У меня был приказ генерал-лейтенанта НКВД Шумейко перебросить саперов в расположение дивизии генерала Глазычева. Я этот приказ выполнил. И позвольте напомнить, Илья Григорьевич, что я подчиняюсь только генерал-лейтенанту НКВД Петру Ильичу Шумейко.
Снова стало тихо. Генерал Лыков достал пачку «Беломора», выудил папиросу, стал прикуривать — спички ломались и не хотели зажигаться. Наконец прикурил, глотнул дыма и закашлялся. Потом сказал:
— Все свободны. Приказ о наступлении получите по рации. Готовность номер один.
Офицеры стали один за другим выходить из блиндажа. Генерал вдруг сказал резко:
— Твердохлебов, останься!
Твердохлебов остановился, медленно вернулся к столу. В голове гудело и пересохло во рту — шершавый язык царапал нёбо.