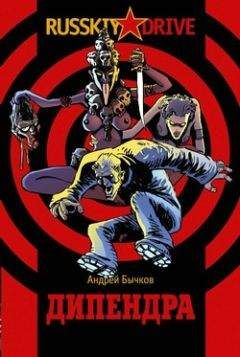Она говорила очень тихо, но я слышал каждое слово.
— Вы не умрете, — сказал я.
— Я тоже всем так говорила. И все они умерли.
— Вы и мне так говорили. И я не умер.
— Я знала, что вы не умрете. Я ведь ошибалась только вначале. Когда я нашла вас одного в типографии, я уже не ошибалась. Сколько людей умерло к тому времени, и я видела, как они умирали. Я все знаю о смерти и ничего не знаю о жизни. Странно, правда?
— Сейчас будет тепло, — сказал я, ковыряя кочергой в печурке. — Уже тепло. Вы разве не чувствуете?
— Нет, не чувствую, — ответила она. — Я больше не чувствую ни тепла, ни холода. Я рада, что вам тепло. А я ничего не чувствую, ни рук, ни ног, будто их нет. Меня нет, а голова светлая, не потухает. И я жду, когда она потухнет.
Я молчал, следя за паром, который уже начал виться над кастрюлькой. Когда вода в кастрюльке закипит, я выну концентрат из кармана и всыплю в кастрюльку, и будет каша. Она перестанет говорить о смерти, когда увидит, что я принес ей кашу.
— Пока мама была жива, я все могла, — сказала она. — Ходила за хлебом, носила воду, топила печки. И не только для мамы — для всех. Я все печурки во всем доме знала. Я не хотела, чтобы умирали, я хотела, чтобы жили, жили, жили… Мама перед смертью кричала и плакала. Ничего не понимала, меня не узнавала, и все-таки ей было больно… Может быть больно, если ничего не сознаешь? Как это страшно, когда ничего не сознаешь, а больно!.. Мне, например, совсем не больно… Когда мама перестала кричать и заледенела, я перенесла ее в ту комнату и положила на пол. И упала. Ноги совсем перестали держать. Я приползла оттуда. Я ползла целый час…
— Когда это было?
— Не знаю. Давно.
— Вчера?
— Нет, не вчера. Гораздо раньше. Прошла неделя. Нет, дня три или четыре. Если бы прошла неделя, остановились бы часы…
Я смотрел на ходики. Одна гиря поднялась к самому верху, другая опустилась почти до пола. Я подтянул опустившуюся гирю.
— Вот я умру, а часы будут идти. Как странно!
— Вы не умрете! — оборвал я ее. — Смотрите, что я принес!
Вода в кастрюльке уже булькала. Я вынул из кармана концентрат и показал Асе.
— Что это?
— Каша! — воскликнул я с торжеством.
— А, — сказала она безразлично.
— Каша! Каша! — повторял я, вытряхивая концентрат в кастрюльку. — Сейчас у вас будет каша! Много каши!
Она молчала, и я думал, что она не понимает или не верит. Но она отлично понимала.
— Вы не съели сами и принесли мне, — сказала она. — А мне не нужно. Вы ешьте, а я посмотрю, как вы будете есть.
— Вы, вы будете есть!
— Я не могу. Вот. Поглядите.
Я не сразу понял, на что она просит меня поглядеть, потому что было уже темно и я смутно видел ее.
— Вот, — повторила она. — Протяните руку. Вот. Под подушкой.
Я сунул руку ей под подушку и один за другим вытащил несколько ломтей хлеба.
— У вас есть хлеб!
— Скушайте, — попросила она.
— А вы? Почему вы не съели?
— Не могу. Не глотается. Проглочу — все назад. А я знаю, что это значит.
Я замолчал. Я тоже знал, что это значит.
— И давно это у вас началось? — спросил я тихонько.
— Давно. Еще мама была живая.
— И с тех пор вы ничего не ели?
— Ничего. Мне так лучше. Я это много раз видела. Мне уже есть нельзя.
Я тоже это видел много раз и знал, что, если у человека не осталось желудочного сока, он больше никогда не будет есть. И все-таки я продолжал настаивать.
— Каша! — повторял я. — Не сухой хлеб, а мягкая горячая каша!..
— Не надо, — сказала она умоляюще. И я замолчал.
Совсем стемнело, и только печка швыряла красные прыгающие пятна на пол, на стены. Ася утихла, и я сидел и поглядывал на нее, стараясь отгадать, открыты у нее глаза или закрыты. Но лица ее в темноте не видел. Сквозь гудение печки и тиканье часов я не мог расслышать ее дыхания. Иногда мне казалось, что она уже не дышит… И вдруг она что-то сказала.
Я переспросил. Я не расслышал.
Она повторила, но я не расслышал опять. Я сел на край ее кровати и тихонько склонился над нею.
— Капли падали, — выговорила она еле слышно. — Сегодня солнце светило в окно, и я видела, как падали капли. Тени капель, сверху вниз. На солнце уже тает.
— Чуть-чуть, — сказал я. — Совсем еще мало.
— Придет весна, а я ее не увижу… Как странно!.. Когда я умру, мне станет все равно, ведь правда? Кого нет, тому все равно. Правда?
— Правда, — сказал я.
— Вот это страннее всего. Мне никогда не было все равно, и я не могу понять, как это станет все равно.
— Да, — сказал я, — вам будет все равно. Но тем, которые останутся в живых, никогда не будет все равно. И мы всех тех злых дураков, которые сидят вокруг города в снегу и сторожат нас…
— Про кого вы говорите?
— Про них! — сказал я.
Мы в осаде не называли немцев немцами. Мы называли их просто — они.
— Не надо, — попросила она. — Не надо про них. Я не хочу сейчас про них думать.
И я замолчал. Я понял, что тяжело умирать, ненавидя.
— Я хочу думать про вас, вы последний, кого я вижу. — Голос ее совсем ослабел, и я, чтобы слышать, пригнулся к ее лицу. — Вы пришли ко мне, и я не одна. Я думала — неужели ко мне никто не придет? Это было бы слишком несправедливо. И вы пришли. Скажите, вы когда-нибудь любили? И вас уже любил кто-нибудь? Как это, наверно, хорошо, когда тебя любят и ты любишь. Скажите мне…
Но я ничего ей не сказал. К моим тридцати годам уже и я любил, и меня любили, и не раз. Это бывало запутанно и больно, и я бывал виноват, и те, кого я любил. Но я не мог объяснить это ей, еще никогда не любившей.
— Я один день любила мальчика, с которым качалась во дворе на качелях, — сказала она. — Мы так раскачали доску, что чуть не влетели в окно третьего этажа. Когда он летел вверх, он нагибался ко мне, и я видела, что он хочет меня поцеловать… Больше я никогда не буду качаться на качелях. Как странно!
Она замолчала. Потом я услышал:
— Поцелуйте меня вместо него.
Я нагнулся и осторожно тронул губами ее губы, не сразу найдя их в темноте.
— Вот так, — сказала она.
13
Утром я пошел в порт, а еще через день отправился на медицинское освидетельствование. Меня просветили рентгеном и язвы не нашли. Голод вылечил меня. Я ушел в армию, и следующей зимой мы пробили брешь в осаде. А еще через два года я видел, как мы осадили Берлин, который не продержался и двух недель.
1943–1963
1
Про младшего лейтенанта Игоря Королева говорили, что он боится женщин, и смеялись над ним. Сам он утверждал, что нисколько женщинами не интересуется. В действительности же он очень ими интересовался, но отношение его к ним было таким сложным, трудным и мучительным, что он из самосохранения избегал их. А с некоторых пор, после одного происшествия, к множеству чувств, которые он к ним испытывал, примешалось чувство отвращения и отравило все.
Происшествие это многим показалось бы ничтожным, но на девятнадцатилетнего младшего лейтенанта оно произвело огромное и противное впечатление. Батальон аэродромного обслуживания, в который он попал, наскоро окончив школу лейтенантов, стоял на опушке леса, километрах в трех от поселка, оставленного почти всеми жителями. Батальон должен был приготовить и содержать в порядке летное поле, на которое вот-вот могли прилететь и сесть самолеты; но летное поле было уже давным-давно готово, и зима — первая зима войны — шла к концу, а самолеты все не прилетали. Младший лейтенант Королев каждый день выходил со своими бойцами расчищать и уравнивать снег; других обязанностей у него не было. Они работали на ветру и морозе, борясь с наметенными за ночь сугробами, и из-за леса доносилось ровное громыхание фронта. Фронт в этих местах намертво установился еще осенью и с тех пор не передвинулся ни на шаг. После работы Королев, усталый и замерзший, возвращался в землянку, валился на койку и засыпал.
В землянке вместе с Королевым жили два офицера — начальник строевой части и командир роты связи. Оба они были лет на двадцать старше Королева и относились к нему добродушно и снисходительно, как к славному и ничего еще не смыслящему птенцу. Дела у них было немного, и они томились от скуки.
Иногда по вечерам они таинственно переглядывались и уходили, наказав Королеву что отвечать, если внезапно позвонит начальник штаба батальона. Бока их под шинелями оттопыривались — во внутренних карманах были бутылки. Королев знал, что идут они в поселок, в какой-то домик, где живут какие-то Надя, Клава и Стефа, что вернутся они на рассвете и что завтра они будут прятать свои опухшие лица и стараться не попадать начальству на глаза. Королев презирал их и в то же время не мог избавиться от тайного чувства зависти; его унижало, что они считали его птенцом, и ему хотелось показать, что он такой же, как они, — тертый, бывалый, настоящий мужчина.