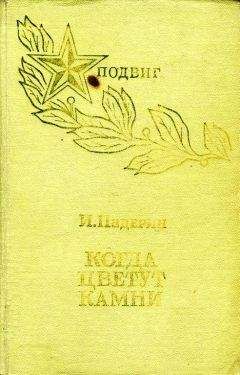Варя осталась с Надей. Но у Лени было такое чувство, что она держит его невидимыми нитями, которые с каждым шагом все сильнее и сильнее, точно стягивающаяся резина, тащат его назад. Шагать становилось все тяжелее. Шаг, еще шаг. Останавливаться нельзя, оглядываться тоже, иначе не хватит сил двигаться вперед.
И тут он попался на глаза командиру полка.
— Куда это ты собрался в таком виде, комсорг? — спросил Максим. — Что это за наряд?
Леня поднял голову и, увидев, что делают связные, спрыгнул в воронку от бомбы, вывозился так в пыли, как мог, выскочил и со всех ног бросился догонять свой отряд. Замечание командира полка он понял на свой лад: «Комсоргу отряда стыдно плестись в хвосте». А это значило: надо быть там, где положено быть комсоргу. Теперь оставалось как-то убедить товарищей, что он лишь на минуту забыл о своих обязанностях.
Не прошло и часа, как полк приступил к выполнению боевой задачи. На переднем крае наступила обычная предвечерняя пауза. Через боевые порядки частей, остановившихся перед Тиргартеном, стали незаметно просачиваться мелкие группы штурмовых отрядов Корюкова. Максим лишь предупредил командиров действующих здесь батальонов, что введет в бой свои отряды не после, а до оформления приема и передачи позиций. Командира полка он уговорил не снимать своих подразделении до тех пор, пока передний край противника не отодвинется назад.
— Удастся ли? Посмотрим, — с недоверием ответил командир. — Что-то не вижу активности.
— Смотрите, если уже не просмотрели, — ответил Корюков.
И вдруг камни словно ожили: задвигались кирпичные кучи, глыбы арматуры, обломки стен, упавших балконов. Будто стихийная сила природы сдвинула корку земли на этом участке, и все пришло в движение.
Вот большая горбатая глыба пересекла улицу. Наконец-то фашисты поняли, что это советский танк, и открыли по нему огонь. Поздно. И бесполезно. Даже фаустпатроны не остановили его. Броня, прикрытая мешками с песком, оказалась неуязвимой. Взвилась красная ракета: атака! Сильный взрыв. Это саперы первого отряда подорвали стену. В стене образовалась брешь. В нее, теперь уже во весь рост, бросались гвардейцы. Взят один квартал, второй…
Новое препятствие: канал Ландвер с высокими бетонированными барьерами и отвесными стенами. Подход к мосту пронизывался пулеметным огнем справа и слева. Площадь перед мостом заминирована. Под асфальтовой коркой запрятаны сотни противотанковых и противопехотных мин. Корюков дал сигнал: «Стоп!» Он решил ждать ночи. Ночью можно будет организовать переправу через канал и захватить мост.
Гвардейцы занялись улучшением исходных позиций.
Группа захвата первого штурмового отряда приступила к очистке от фашистов подвала углового дома, что вблизи моста. Прудников первым вскочил в этот подвал вслед за брошенной гранатой.
Вскоре в подвале собралась группа захвата, подошли танкисты, затем артиллеристы и полковые разведчики. Отсюда хорошо просматривались подступы к мосту: каждому хотелось заранее присмотреться и наметить себе путь к мосту по самому кратчайшему расстоянию. Выход из подвала широкий. Видать, раньше сюда прямо с улицы пивные бочки скатывали. Здесь была пивная — от стен пахло солодом. Бочки стояли в каждом углу.
Спустя некоторое время напряженность у людей спала. Воины перевели дыхание. Мало кто помнит, дышит ли он в бою. Теперь можно было поговорить, пошутить, посмеяться.
Нас не трогай, мы не тронем,
А затронешь, русских позовем, —
запел кто-то из артиллеристов. Эту последнюю фразу он привез из познанского госпиталя.
Один Леня Прудников был по-прежнему молчалив и грустен. Гвардейцы по-своему объяснили себе его состояние: о такой девушке, как Варя, не грешно погрустить.
Алеша Кедрин не выдержал и присел рядом с Леонидом.
— Слушай, комсорг, ну, скажи по совести, что у тебя случилось?
— Не спрашивай. Сам виноват. Потом скажу.
— Догадываюсь. Но очень-то не грусти. Со мной тоже однажды случился конфуз. Хорошенькая такая была, ну прямо прозрачный и нежный лепесток. Голос ласковый, глаза — синее море, смотрит на меня так влюбленно — снимай рубашку и ныряй в это синее море. Оторопел я сначала, потом набрался храбрости — поцеловал. Ничего — вздыхает. При втором разе тихонько шепчет: «Не надо». А я все свое. И тут она как развернется да как резанет меня по уху, аж в глазах позеленело. Нежная, а ударила не хуже молотобойца. Потом вскочила, махнула косой перед носом и ушла, а я сижу как в гипсе — ни рукой пошевелить, ни ногой… Ухо горит, на душе муторно… И вот, как ты, два дня ходил злой и грустный. Потом все же помирились. Так что ты не грусти. В этом деле тоже тактика нужна: выдержка и спешить не надо, на силу не надейся. Понял? Любит она тебя. Даю голову на отсечение — любит. Слышишь, Леня, любит.
Алеша тронул друга за плечо.
— Да отстань ты…
— Вот чудак! Я к тебе с добрым советом, а ты злишься.
— Прекрати.
Кедрин отошел от Лени к окну.
— Был, друзья, со мной такой переплет, — глядя на Прудникова, издалека начал парторг группы, старшина Борковин. — Семь лет я ухаживал за Маней, оберегал ее от всяких посторонних влияний. И вот приезжает к нам в колхоз инструктор один и начинает увиваться вокруг моей Мани. Я ей говорю: «Смотри, обманет». — «Не выдумывай, — отвечает, — он культурный, инструктирует, как рекорд поставить по прыжкам с разбега». Я взгрустнул. Она меня обняла и говорит: «Не бойся, в субботу пойдем в загс». Дело было в понедельник. Обрадовался я, готовлюсь всю неделю по всем правилам, родню созываю, как положено. Подходит суббота. Иду к ней в новых штиблетах, при галстуке — и вдруг вижу: возле крыльца ее дома — машина. Моя Маня с чемоданом, и этот инструктор подсаживает ее в кузов. Я остолбенел, а когда кинулся вперед, машина фыркнула — и пыль столбом. Бросился бежать, но разве догонишь. А он издали машет мне рукой. Такое зло меня взяло, было бы ружье под рукой — не сдержался бы от ревности…
— Разве у партейных бывает ревность? — спросил кто-то из автоматчиков.
— Партейных, эх ты… И вот от ревности даже про ружье подумал.
— По скатам бы эту машину. Комплекция у тебя подходящая, потом стащил бы этого инструктора и тряхнул бы разок, — вмешался пулеметчик Рогов, прищурив свои острые, как штык, глаза.
— Я бы в таком случае что? Прямой наводкой твоим подкалиберным кулаком и этому инструктору под дыхало, — подсказал кто-то из артиллеристов.
— Нет, я бы его сначала заставил по-пластунски поползать, как мы, саперы, ползаем за минами на нейтральной.
— Можно и так, — согласился Борковин. — Но все было напрасно.
— Почему ж?
— А так. Через неделю приехала моя Маня и привезла рекорд. Честным он парнем оказался, этот инструктор. Вот ведь как можно иной раз просчитаться.
— Ну, а свадьба состоялась?
— Конечно, по всем правилам.
— И теперь твоя Маня рекорды ставит?
— Перед войной еще один поставила, на всю Сибирь, а потом в тягостях оказалась, сына вынашивала.
— Вот так. Напиши ей, пускай готовится…
— К чему?
— К твоему приезду.
— Не до этого ей сейчас. Председателем колхоза избрали.
— Тогда торопись домой. Теперь и взаправду может изменить.
Борковин пододвинул ногой под сиденье еще один кирпич и ответил:
— За такое тебе, Рогов, чирьяк на язык. Не подумал, а бухнул: в деревне мужиков-то сейчас раз, два и обчелся. Одни бабы да старики остались. Вот о чем подумай да не подставляй голову под пулю, тебя дома жена ждет.
— Хитер ты, старшина, вон куда удочку закидываешь. Проверяешь: завтра, мол, конец войне, и не стану ли я бояться ранения или смерти, не упаду ли нарочно в последней атаке? Не сумлевайся. Во-первых, от тебя не отстану, во-вторых, убить нас с тобой трудно, не дураки, воевать научились; ты человек живучий, и я также. Понятно? Смерть — шутка плохая, но она происходит от пули в сердце или в висок, а я что за дурак — подставлять ей такие места? А от других ран не умирают. Вот разве в живот, кишки прорвет — тогда тоже плохо. Но не боюсь я, парторг, не боюсь. Рана и кровь в атаке для солдата такое же обыкновенное дело, как для женщин роды. Без этого победы не добудешь… Вот так я думаю. И не сумлевайся, не проверяй. Буду действовать как положено, несмотря на то, что завтра или послезавтра уже никому не будет угрожать смерть. А сейчас я про жизнь хочу вслух помечтать.
— Ладно тебе, Рогов, дай другим сказать, — попытался остановить пулеметчика парторг. Ему важно было выяснить, как настроены солдаты перед штурмом.
— Что ты меня обрываешь, — возмутился Рогов. — Мечта мне храбрости и силы придает. Вот мечтаю я: встречает меня моя Кланя с сыном. Тараска его звать, неслыханный богатырище растет. Она прижимается к моей груди. Тараска ревнует, ему хочется рукой пощупать мои ордена и медали, а мамка заслонила их. Что прикажешь в таком разе делать отцу?