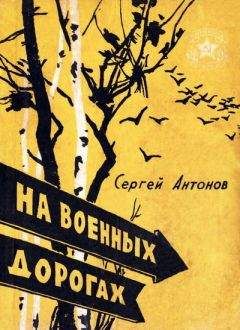А много ли отпущено почету женщине, которая воевала вместе с нами, вместе с нами была на фронте и получала солдатскую пайку хлеба? Той обыкновенной женщине в серой шинели, которую в газетах величали «фронтовой подругой», а неумные остряки с усмешкой называли ППЖ?.. Чего греха таить — скупо мы ее отблагодарили, скупо и мало. Сами они о военных годах позабыли, орденских колодок не носят, ходят в своих цветных блузках да юбчонках, и им все равно, какие петлицы означают строевого командира, а какие интендантский состав… И теперь в толпе, на улице не разобрать, которая была на войне, которая — в тылу. Им уже под тридцать, а то и больше, и воюют они теперь у себя дома, с мужьями да ребятишками.
А ведь когда-то им было по восемнадцать и по двадцать — тот возраст, когда для женщины отворяются ворота в большую жизнь со всеми бессонными материнскими радостями. И вот в эти годы пришлось им работать возле нас медсестрами, на полевых почтах и в штабах. Пришлось быть летчиками, связистами, снайперами и даже танкистами… Этих-то я, правда, редко видал, больше мне приходилось сталкиваться на военных дорогах с регулировщицами.
Особо мне запомнились почему-то девчата, которые регулировали движение на трассе между Лавровом и Шлиссельбургом в сорок третьем году. В то время участок Лаврово — Шлиссельбург был очень беспокойный, поскольку как раз в этом месте наши части прорвали блокаду Ленинграда и загнали врага на Синявинские высоты. Фашист сидел на Синявинской горе злой, как черт, и беспрерывно огрызался: кидал без счету снаряды, старался нарушить коммуникации. Самый тяжелый регулировочный пост был на пятачке у четвертого поселка. Там немец озорничал особенно часто. И машинам доставалось на этом посту, и регулировщицам доставалось: то одну убьет, то другую. И когда старший лейтенант сажал в полуторку смену, чтобы везти на четвертый поселок, девчата ревели: и те, кто сидел в кузове, и те, кто оставался.
Правда, у них там, возле поста, были накопаны щели, чтобы прятаться от обстрела или бомбежки; так они первое время не решались залазить в щели. Боялись — засыплет. И в щели прятались только когда видели эмку командующего армией.
Начальником над взводом регулировщиц был кадровый старший лейтенант, многосемейный и нервный человек. Он сильно обижался, что его приставили к этой плакучей команде, и относился к барышням, как к временной помехе в своей военной судьбе. Когда девушки подходили к нему с рапортом, он морщился и отводил глаза. Ему даже совестно было идти возле них по дороге. И когда приходилось выводить взвод из расположения части, он приказывал кому-нибудь подсчитывать ногу и шел в отдалении, будто прогуливался сам по себе и дышал свежим воздухом.
Чаще всего старший лейтенант доверял вести строй белобрысой северянке, которая была у них вроде отделенного командира. Настоящее имя ей было Даша, а шофера и сами девчата прозвали ее «мамашей», хотя было ей лет двадцать, не больше. Девчонка была плотная, коренастая, широкой кости, и мужское обмундирование приходилось ей в самую пору. Держала она себя с подругами на «вы» и всякие шуры-муры пресекала в корне: губы мазать не разрешала, а у кого замечала излишнюю завивку волос — выводила из строя и спрашивала:
— Вы что сюда приехали — воевать или кудри завивать?
Бывало, услышит вечерком где-нибудь в темноте, за пушкой, шепчется парочка. Какой-нибудь безусый зенитчик завлек регулировщицу, держит ее, бедняжку, за руку, называет залеткой и декламирует стишки. А между стишками робко просит разрешения на поцелуй, а она говорит, что это необязательно. Оба, конечно, млеют. Для обоих война объявила перерыв. Вот тут «мамаша» и спускает их с неба на землю. Встает она перед ними как лист перед травой, встает против очумевшего парня в положение «смирно» и задает ему вопрос:
— Вам известно, что на фронте беременность приравнивается к членовредительству?
Затем пропускает вперед себя перепуганную залетку и ведет в расположение, а молоденький зенитчик долго стоит на месте, словно контуженный, и хлопает глазами.
Несмотря на это, девчата ее слушались и даже уважали.
А уважали ее за дело. Надо сказать, что лучшей постовой на поселке была эта Даша. В самые горячие дни и ночи она не искала отговорок и собиралась на пост спокойно, словно на огород полоть грядки. Она до тонкости изучила, когда и куда стреляет немецкий артиллерист, когда ожидается длинная колонна «беккеров» с боекомплектами, когда повезут раненых, а когда эвакуированных из Ленинграда. Дорога была тяжелая, местами однопутная, с малой пропускной способностью, и оттого, что водители торопились проскочить опасный участок, часто получались пробки.
Порядок на трассе в основном зависел от регулировщицы. И Даша, как говорили водители, прямо-таки ворожила двумя своими флажками. В ее дежурство на дороге было меньше всего потерь в живой силе и технике. Не один раз она имела благодарность командования и первая из всего взвода получила орден Красной Звезды.
И вот эта «мамаша» влюбилась.
Вокруг такой чудной новости девчата из комендантского взвода зашумели, как сороки вокруг пшена. Острый у них глаз: чуть не в первый день угадали, что с «мамашей» неладно. Некоторые, конечно, не верили: трудно было уложить в голове такую несообразность. Но их убеждали и приводили факты: звать — Григорий, служит старшиной, возит на передовую продукты, подписал Даше фотографию в полный рост. Еще передавали такую подробность: будто он обещался жениться на ней, когда кончится война. Стали девчата глядеть за своим отделенным. Так и есть. Изменилась она. Вся стала какая-то довоенная. Перестала ругать за кудри и за крашеные губы. Постирала флажки. А потом кое-кому удалось повидать Григория. На вид он был нежный, томный и улыбался печально, словно виноватый перед людьми. «Этот не обманет, женится», — решили девчата.
Как я после узнал, знакомство у них произошло на четвертом поселке. Немцы бьют с Синявинской горы из орудий, а осколки летят на дорогу. А тут идет машина. Водитель — голову в плечи и жмет на газ, торопится перескочить горячее место. Как вдруг появляется из щели Даша и выкидывает кверху красный флажок. И шофер и Григорий кричат в два голоса из кабинки: «Ты что, не соображаешь? Разве можно на таком сабантуе стоять!» А она ни в какую. Стой — и кончен бал. «Что поделаешь — баба, она баба и есть», — говорит водитель. «Женский пол», — усмехается Григорий. «Как хочешь обзывай, а вперед не поедешь», — говорит Даша. (Кое-какие слова из ихней беседы я, понятно, пропускаю.) «Давай, подавайся назад в лесок, — продолжает она. — Вперед не пущу». — «Куда назад! Пока развернусь, он из меня двоих сделает!» А она встала посреди дороги, как надолба, и стоит. «Девку не переговоришь, товарищ старшина», — сердится водитель. «Езжай!» — командует Григорий. Водитель включает скорость, шумит: «Задавлю!»— «Дави, — говорит Даша. — А пока живая — не поедешь!» Он напирает на нее радиатором, а она, хоть флажки уронила, не уступает. Кто бы кого переупрямил — не знаю, да в эту пору подоспел снаряд. Хрястнул у дороги, и осколок укусил Дашу за бедро… Села она наземь, сидит. Выскочил Григорий из кабинки, поднял ее на руки — тяжело. Она говорит: «Куда тебе! Меня полуторка не стронула, а ты уж и подавно…» Все-таки вдвоем с водителем перетащили ее за кювет и перевязали рану, честь по чести, по всем правилам. А тем временем все вокруг затихло. Немец сменил квадрат и стал бить куда-то вперед, примерно за километр от четвертого поселка.
— Слышишь, куда стреляет? — говорит Даша, — По однопутке бьет, где гать настлана. Пустила бы я вас, ты бы сейчас там и стоял. А оттуда автобатовские должны ехать. Вот вы бы с ними и встали нос к носу и устроили бы пробку, а он бы вас и молотил, как хотел, накрошил бы из вас утильсырья. А здесь он недолго бьет, нарочно пугает, чтобы на однопутку побольше машин загнать.
— Чего ж ты раньше не сказала? — спрашивает Григорий.
— Буду я под обстрелом лекции читать…
Проехали машины автобата. Немец затих. Григорий говорит водителю:
— Ты езжай, а я тут ей помогу. Если бы не мы, цела бы осталась у нее нога. Мы с тобой виноваты.
— Никто не виноват, — говорит Даша. — Вы свое дело делаете, я свое. Езжайте. На посту посторонним лицам находиться не положено.
Но Григорий все-таки остался, и с этого момента закрутилась у них любовь.
Даша быстро оправилась от легкого ранения и пошла на свой пост, на четвертый поселок. Там они в основном и виделись. Сами понимаете, что это было одно горе, а не любовь. Он торопился к солдатам, на передовую, как любой старшина торопится, она берегла его и гнала с опасного участка. Бывало, кивнут друг дружке — вот и все свидание. Как в такой обстановке они узнали один про другого, не могу понять, но Даша пересказывала всю его биографию до самой малой тонкости, будто сидела с ним в обнимку полную ночь где-нибудь в тихом садике.