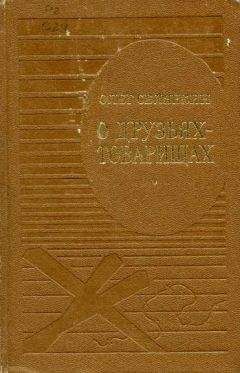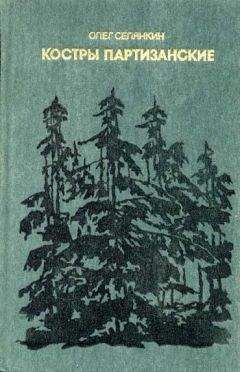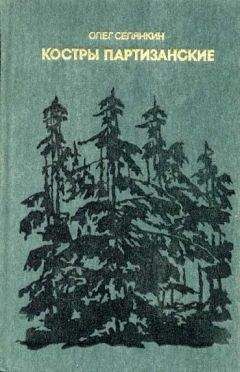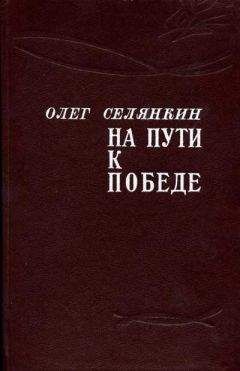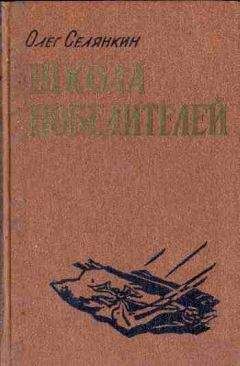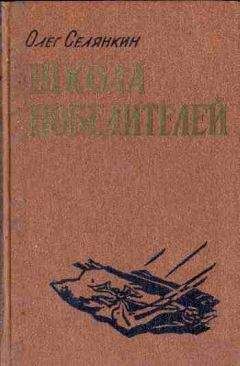— А дядя Коля сам и без напоминаний чистил зубы…
— А дядя Коля был очень сильным (и обязательно показывали его фотографию). Почему был сильным? Он каждое утро занимался гимнастикой…
Может быть, специалисты этот метод моего воспитания сочтут в какой-то степени порочным, может быть, в нем, действительно, не все шло «от науки», но факт остается фактом: стоило упомянуть о дяде Коле — я немедленно бежал чистить зубы, ел даже манную кашу или спешил к открытой форточке, чтобы около нее несколько минут помахать руками.
Дедушка, как мне помнится, никогда не рассказывал о войне, хотя я частенько приставал к нему с вопросами о ней. Лишь однажды, когда я, до глубины своей детской души взбудораженный рассказом В. Гаршина «Четыре дня», особенно настойчиво выспрашивал у него, правда ли все, что здесь написано, он ответил, почему-то сожалеючи глядя на меня:
— Понимаешь, внучек, на войне все вроде бы и так, как пишут в книгах, и вовсе не так. — Помолчал и добавил: — Когда ЭТО нужно Отечеству, вся личная философия — чепуха.
Мне было тогда лет девять или десять, но по интонации голоса дедушки понял, что он имел в виду под словом ЭТО. Понять понял, даже запомнил, но в глубину мысли не смог проникнуть; мал был, да и голова моя тогда, к сожалению, была больше занята думами о рыбалке или футбольном матче нашей уличной команды с командой поселка Чунжино. Да разве у меня в те годы было мало своих ребячьих забот?
В школе № 8 (ныне школа № 75) на станции Чусовская я учился хорошо, окончил ее с отличием, но, к стыду моему, почти до последнего года учебы мою маму нет-нет да и приглашали на педсовет или к директору. И причина всегда была одна: ее «дите», глядишь, и выкинет какое-нибудь коленце. Например, однажды я умудрился прочитать сочинение (домашнее задание), глядя в пустую тетрадку. Все шло, казалось, нормально, но Анна Ивановна Рубан — наша литераторша и классная руководительница — сразу же разоблачила меня: попался на том, что, прочитав довольно объемное сочинение, умудрился не перевернуть ни разу хотя бы страницу.
Мои проступки были порождены излишком энергии, а не злыми намерениями, но они, как я позднее понял, мешали нормальному ходу учебного процесса. А тогда в нашей школе работал замечательный коллектив учителей — М. М. Парфенов, М. А. Коровиченко, М. К. Исакова, А. И. Рубан, А. В. Нечаева, Ф. Б. Касьянов, З. П. Дружинина, И. И. Завалин и другие, которые наше обучение и воспитание считали делом серьезным и дисциплину в школе ставили во главу всего. О всех о них у меня остались самые лучшие воспоминания.
Правда, не всегда прегрешения мои были такими тяжкими, какими они рисовались педагогическому совету или директору школы. Однажды, например, на уроке я просто задумался о чем-то постороннем, и вдруг учительница спрашивает:
— Селянкин, что ты там делаешь?
Я сидел в самом дальнем от нее углу и оттуда почему-то ответил так:
— Мышь ловлю.
Учительница была молода, чрезмерно самолюбива, не смогла своевременно установить с нами делового контакта, во всем старалась увидеть только плохое, поэтому моментально выскочила из класса, а еще минут через десять я был уже выдворен из школы со строжайшим наказом:
— Без мамы не приходи!
Возможно, эта злополучная «мышь» и оказалась бы для меня роковой, если бы не Рубан, прекрасно изучившая всех нас и особенности наших характеров. Она не поверила рассказу молодой учительницы, после занятий задержала весь класс и узнала правду.
Когда я учился в школе, мной и овладело неодолимое желание стать обязательно военным моряком. И случилось это потому, что мне повезло: в те годы я очень много читал, и среди множества книг, прочитанных мной тогда, оказались чуть ли не полное собрание К. Станюковича и другие произведения о моряках вообще и об их подвигах в годы гражданской войны. Впечатление от прочитанного было настолько велико, что мне страстно захотелось, подобно тем морякам, о которых я узнал из книг, «рвануть на груди тельняшку» и, презирая смерть, броситься на вражеские пулеметы.
И форма, красивей которой нет ничего на свете, конечно, тоже сыграла немалую роль.
Рубан одной из первых разгадала мои мечты и однажды предложила мне прочесть роман Л. Соболева «Капитальный ремонт». Мне не хотелось огорчать Анну Ивановну, и я взял книгу, прочел ее. И с тех пор этот роман — одно из любимых моих произведений, которое я готов перечитывать до бесконечности. И если раньше, читая маринистов, я восхищался и любовался только замечательными людьми — русскими и советскими военными моряками, — то теперь увидел и огромную силу Военно-Морского Флота, был покорен ею. И после этого мечта стать военным моряком окончательно обосновалась в моем сознании. У одного из одноклассников (Толи Терещенко) я даже выменял старую тельняшку и с гордостью напялил ее на себя.
Мое желание стать военным моряком зародилось, бесспорно, и потому, что тогда — в начале тридцатых годов — вся наша страна жила подвигами советских воинов во время конфликта на КВЖД и при охране наших государственных границ. Мы, комсомольцы, тогда ежечасно помнили о своем шефстве над Воздушным и Военно-Морским флотами, гордились этим, и, когда окончили десятый класс, пятеро нас (из шести парней-соучеников) немедленно подали заявления в военные училища. А еще через два месяца с путевкой комсомола я прибыл в Ленинград, стал курсантом Высшего военно-морского училища, которое по классу подводного плавания и окончил в марте 1941 года.
В 1937 году стал я курсантом, а вскоре после этого мама и бабушка переехали в Пермь, куда теперь и привезли меня раненого, полуживого.
Не помню номера госпиталя, но размещался он во второй клинической больнице (на улице Плеханова). И многих врачей даже ни имен, ни фамилий не помню, но вот Б. В. Парин, А. П. Соколов и А. К. Шипов навечно врезались в мою память. Внешне даже суровые, они были душой госпиталя, к ним мы, раненые, и шли со своими бедами, сомнениями.
И еще я помню и буду помнить дежурную медицинскую сестру Анну Самойловну. Худощавая и очень подвижная, она во время своего дежурства, казалось, ни на минуту не присаживалась, все время металась по палатам, не оставляя без внимания ни одной просьбы раненого. А вот как она выполняла их, эти просьбы…
Ночь для раненого — самое неприятное время: и сон бежит от тебя, и раны болят. А если и уснешь, то такие кошмары на тебя навалятся — в холодном поту проснешься. Проснешься среди ночи, глянешь на кого-нибудь из соседей — и того горше станет: горит в палате одна синяя лампочка, и в ее свете все товарищи покойниками кажутся. Ну, моментально и взвинтятся нервишки, а случилось такое — и понесло, и поехало!
Поэтому мы и боялись ночи. Прежде чем уснем, с какими только просьбами не обращались к дежурным сестрам! А у меня от частого употребления снотворного уже обозначилось к нему влечение. Как ночь — подавай его, и все тут! Иначе глаз до утра не сомкну.
И бывало — не спал за ночь ни минуты: ведь сестры понимали что к чему, всячески уклонялись от выполнения моей единственной и неизменной просьбы.
А вот Анна Самойловна никогда не расстраивала меня отказом, она всегда мне отвечала ласково:
— Сейчас, миленький, сейчас.
Ответит так и немедленно исчезнет. А я лежу с открытыми глазами, смотрю в ненавистный потолок палаты и ловлю в коридоре торопливые шаги Анны Самойловны, чтобы, когда она будет пробегать мимо нашей палаты, вновь (который уже раз!) повторить свою просьбу.
Потом, когда я, устав ждать, начинал злиться, Анна Самойловна обязательно приходила с тазиком стираных бинтов и говорила:
— Понимаешь, совсем запарилась! Чтобы я поскорее принесла тебе порошок, помоги мне, скатай, пожалуйста, парочку бинтов.
Я, предвкушая скорое успокоение всех болей, охотно брал один бинт, расправлял его на своем правом бедре и начинал скатывать.
Скатал. Взял второй бинт, третий… А Анны Самойловны все нет…
Какое-то время все еще жду ее, но уже без психоза, а потом и засыпаю сном праведника.
Дорогая Анна Самойловна! Если бы вы только знали, как я сейчас благодарен вам за вашу маленькую хитрость!
Пошло мое здоровье на поправку — стал включаться в общие разговоры, стал непременным участником всех дискуссий, вспыхивавших у нас в палате почти каждый день. Чаще всего до хрипоты спорили о том, когда же остановим немцев под Москвой: до или после Октябрьского праздника?
Самые разные люди лежали в нашей палате: лейтенанты И. Артюхов, И. Товкачев и П. Минаев, ленинградские ополченцы — пожилой Новожилов и юнец Боря, который в свои семнадцать лет уже успел пролить кровь в боях за Родину, казах Кинах, танкист Юрков и стрелок Егоров. Но ни один из нас и мысли не допускал, что Москва может пасть. Все мы истово верили в нашу окончательную победу над врагом и поражение фашистов под Ельней рассматривали как первую ее весточку.