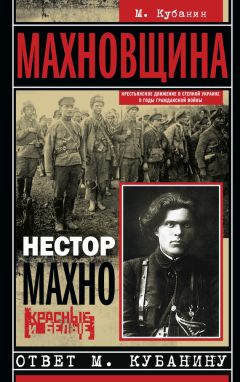семь лет судьба догонит «головного атамана» и угостит его порцией свинца – Петлюру застрелит часовых дел мастер Шварцбард.
Перед тем как выстрелить, часовщик решил уточнить – Симон ли Васильевич Петлюра находится перед ним? Петлюра, словно бы вспомнив свое прошлое, напыжился, вздыбил по-молодецки грудь и, думая, что перед ним стоит обычный почитатель его имени, ответил утвердительно.
После этого прозвучали выстрелы – часовщик всадил в Петлюру всю обойму целиком…
Одним из серьезных противников Махно в ту пору был белый генерал Слащев, воевавший очень умело, небольшими силами, с точным расчетом. Впоследствии Слащев написал: «Петлюра действовал вяло и нерешительно. Оставался один типичный бандит – Махно, не мирившийся ни с какой властью и воевавший со всеми по очереди». Слащев высоко оценил умение Махно воевать, отметил специально: «Это умение вести операции, не укладывавшееся с тем образованием, которое получил Махно, даже создало легенду о полковнике германского генштаба Клейсте, будто бы состоявшим при нем и руководившем операциями, а Махно, по этой версии, дополнял его военный знания своей несокрушимой волей и знанием местного населения. Насколько все это верно, сказать трудно».
Когда Махно сообщили о немце Клейсте, он усмехнулся и недовольно скривил губы:
– Эти немцы драпали от меня так, что только пуговицы с мундиров сковыривались, будто горох. Неужели бы я стал терпеть рядом какого-то прусского борова с тараканьими усами? Да ни в жизнь!
Задиристый Чубенко залихватски сбил набок папаху:
– А вдруг, батька?
– Мой полковник Клейст – это Виктор Федорович Белаш.
Белаш вел штабные дела толково, нисколько не хуже расстрелянного Якова Озерова, а может быть, даже и лучше.
Через несколько дней Махно налетел на станцию Помошную, взял богатую добычу – мануфактуру. Огромные куски ткани – штуки – раздали по селам, бабы были довольны невероятно, пели про батьку благодарные песни. Следом Махно взял еще одну важную железнодорожную станцию – Ново-Украинку – и совершил стремительный бросок на восток на целых сто километров.
Двигались махновцы, по плану Белаша, тремя клиньями: северной группой, средней – это была главная группа, которой руководил непосредственно штаб Повстанческой армии, – и южной. Калашников, командовавший северной группой, с ходу взял Елисаветград, но продержался в городе недолго – через несколько дней белые выбили его оттуда.
Генерал Деникин – человек рассудительный, склонный к анализу, умевший и выигрывать сражения, и проигрывать их, с уважением относившийся к противнику, написал впоследствии, что движение махновцев «совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной: 13-го – Умань, 22-го – Днепр, где, сбив слабые наши части, наскоро брошенные для прикрытия переправы, Махно перешел через Кичкасский мост и 24-го появился в Гуляй-Поле, пройдя в 11 дней 600 верст. В ближайшие две недели восстание распространилось на обширной территории между Нижним Днепром и Азовским морем. Сколько сил было в распоряжении Махно, не знал никто, даже он сам. Их определяли и в 10, и в 40 тысяч. Отдельные бригады создавались и распылялись…».
Надо заметить, что количество штыков в собственной армии Махно действительно не знал. Случалось, к нему приходили целые отряды, с винтовками, но без единого патрона, и батька давал им эти патроны, давал еду, давал пулеметы и отправлял в бой. Назавтра эти люди, выполнив задачу, могли исчезнуть – разбежаться по родным углам. Армия Махно сокращалась и увеличивалась внезапно, в этом была ее особенность.
Деникин отметил, что «в начале октября в руках повстанцев оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, и Мариуполь – в 100 верстах от ставки (Таганрога). Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт».
Признание, сделанное главой Белого движения, стоит многого…
Иногда Махно вспоминал об атаманше Маруське, наглой статной бабе с простой русской фамилией Никифорова; ну ровно бы сквозь землю провалилась атаманша: ни слуху о ней, ни духу. Хотя Никифорова обещала громкие дела во славу анархической идеи. Не может быть, чтобы атаманша, любившая брать в руки маузер и пытать юных белогвардейских прапорщиков, став мадам Бржостэк, провалилась вместе со своим красавцем Витольдом в преисподнюю – провалилась и следочка не оставила.
Впрочем, покидая Гуляй-Поле, Маруся Никифорова бросила кое-какие семена в тщательно вскопанную и хорошо удобренную грядку: разработала план налета на Харьковскую чрезвычайку – в отместку за погубленных в Харькове анархистов, а также несколько «актов» в Москве, причем подгадала так, чтобы прозвучали они в новой российской столице в канун крупного большевистского праздника – Седьмого ноября. Календарь действовал уже новый, Россия жила по европейскому времени.
Сама же Маруся, как и обещала батьке, направилась в Крым.
На полуостров к этой поре начали стекаться сливки российского общества: высший свет Москвы и Питера, в вагонах, если туда заходили белогвардейские патрули, звучала в основном французская речь, если же заглядывали красные с винтовками – те же лощеные дамы старались говорить по-простонародному, подделываясь под кухарок…
Это было противно.
Сама Маруся неплохо владела французским, но во время проверок не произнесла ни словечка. Ни по-французски, ни по-русски, ни по-польски… Чем дальше они уезжали от центра анархической вольницы, от Гуляй-Поля, тем больше она превращалась в обычную бабу, мужнину жену, на которой висят хлопоты по дому, по хозяйству – и мужа надо обстирать, и еду приготовить, – в Марусе исчезали черты грозной атаманши…
Это была и Маруся Никифорова, и в ту же пору совсем не Маруся. Сосредоточенный, молчаливый Витольд только диву давался, глядя на нее.
Единственное, чем она отличалась от обычной жены – тем, что совершенно не экономила деньги, швыряла их налево-направо, как обыкновенную бумагу.
В Крым въезжали чинно, будто «благородные», ни в чем непредусмотрительном не замеченные, в радужном настроении. Даже невозмутимый Витольд и тот не удержался: восхитился нежностью и розовой прозрачностью здешнего воздуха. На первой же крымской станции Маруся вышла из вагона с загадочной улыбкой, сделала несколько шагов и остановилась около торговки местным сладким вином – усатой татарки с быстрыми, как у козы, глазами.
– Вино трехлетней давности, выдержанное, – на чистом русском языке проговорила татарка, – на свадьбу сыну готовила, – торговка неожиданно понурилась, – да сына больше нету…
– Дамочка, не хотите ли жареного крымского гуся? – неожиданно заслонил торговку вином пропеченный до черноты человек с висячими гайдамацкими усами. – Отдам недорого.
Уж очень зазывным был голос у этого человека, уж очень хотелось ему продать гуся… А Марусе очень хотелось купить гуся – сочного, истекающего жиром, с золотисто-коричневой аппетитной корочкой – так захотелось гуся, что даже зубы зачесались.
– Сколько стоит гусь? – спросила она у гайдамака.
– Для такой красивой панночки, как вы, совсем недорого – червонец.
– Естественно, золотом?
– Не деревом же. – Гайдамак засмеялся, показал желтые редкие зубы.
Завысил он стоимость гуся, наверное, раз в пятнадцать, но рынок есть рынок, на рынке нужно торговаться.