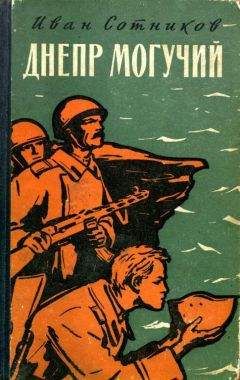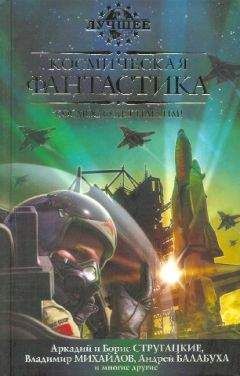На только что подоспевшие понтоны уже грузились танки и орудия.
Нет, не удержаться немцам и на бессарабской земле!
3
Таня с утра не находила себе места. Здесь она родилась, выросла, училась. Здесь ее дом, отец с матерью. Еще в сорок первом ее увезли отсюда добрые люди. Сколько ей было тогда, шестнадцать? Еще маленькая хрупкая девочка. Что сталось с матерью, с отцом, она не знала. Бой переместился за хутор, и Румянцев отпустил Таню.
Она не шла, а бежала, она неслась домой со всех ног, со всем пылом, на какой способна любящая истосковавшаяся душа.
Вон родной хутор. Вон дом. Целый, нетронутый. Ах нет, без крыши. Вон родное крыльцо. Люди говорили потом, как на нем билась в слезах ее мать. Жива ли она? Жив ли отец? Кто это там у завалинки?
— Тату! Ридный мий! Тату! — летела она к дому, узнав отца.
Он бросился к ней навстречу, широко расставив руки:
— Доченька! Дочурка!
Они не смогли больше сказать ни слова, и слезы долго душили обоих.
— Мама жива, тату?
Старик крепче обнял ее и не смог вымолвить ни слова.
— Жива, тату?
Он только покачал головой.
— Одна ты у меня, родиночка.
Таня отрешенно вошла в дом. Тут ее растили, любили, выхаживали. Каждая вещь напоминала о матери. Горе исказило лицо Тани. Не хватало дыхания. Колени сами собой подгибались, и ее одолевала непомерная слабость.
— Мамо!
Отец стоял перед ней беспомощный. Горе и радость смешались в нем мучительно и тягостно.
— Мамо!
Он потерянно шел к ведру, черпал кружку холодной воды, протягивал дочери.
— Мамо!
Так и застали их бойцы. Они подумали, что в доме убитые. Сняли шапки. Они понимали чужое горе. Но их занимал бой. Командир приказал готовить переправу. Нет ли где тут лесу?
Старый хуторянин понял наконец, в чем дело. Нет, лесу тут нет. Ах на плот, на переправу! Он поглядел на дочь, поглядел на солдат, обвел взглядом бревенчатые стены. Родная армия бьет ненавистного врага. Его дочь — солдат этой армии-освободительницы. Разве он пожалеет своих стен, своего дома? Будет мир — он построит новый дом. А сейчас, сейчас пусть рушат эти стены. Будут добрые плоты.
Дом без крыши. Его легко разобрать. Бревна легко перетащить к берегу. Отец Тани сам помог разобрать стены, перетащить бревна волоком на лошадях, помог вязать плоты. Он просил об одном лишь: пусть бревна не оставляют в воде, пусть их вытаскивают на берег. Он снова соберет свой дом.
Таню Румянцев на весь день оставил с отцом. Как ни противилась она, Яков остался непреклонным и на весь день запретил ей участвовать в бою.
А вечером Таня прощалась с отцом на берегу. Он глядел на нее, слабый и старый, убитый горем. Может, она останется? Может, с нее довольно? Ведь девушка. Не все же девушки воюют.
— Нет, тату, я солдат, не останусь.
Она припала к его груди. Пусть он ждет ее. Она скоро вернется. Ну, еще с годик, и война кончится. Она обязательно вернется.
Нет, он сам проводит ее на тот берег, сам! Он машинально работал веслами и молча плакал. Вот сейчас уйдет она — в огонь, где кровь и смерть, и суждено ли им встретиться снова? Ох горе, горе, зачем ты есть на свете?
Соскочив на берег, Таня еще обняла отца.
— Ждите, тату, я приеду. Я приеду! — И решительно зашагала прочь.
Прошло с час, ее почти не видно, а он все стоял и стоял, глядя вслед. А когда она скрылась, он со стоном упал наземь и долго лежал на холодном прибрежном песке. Он ничего не видел и не слышал, кроме своей Тани. Убитая горем, она сидела перед ним на полу и с отчаянием все твердила одно и то же слово: «Мамо!», «Мамо!», «Мамо!».
4
У самой дороги раскинулось большое бессарабское село. Жители высыпали за околицу. Высокий старик молдаванин с морщинистым лицом низко поклонился Глебу, шедшему впереди взвода, и преподнес ему хлеб-соль на цветастом полотенце. Разведчик ответил людям поклоном, отломил кусок хлеба и, посыпав солью, отведал.
Старик обнял его, сказал:
— В нем народная любовь, сынки мои, вся сила и сердце наше.
Нет, этих людей никогда не забудут в Бессарабии. Всюду звонят колокола. Толпы крестьян выходят войскам навстречу. На улицах целые манифестации. Женщины угощают солдат сушеными фруктами, красным молдавским вином, зазывают в избы, спешат угостить всем, что есть лучшего.
Но радость не заслонила и горе. Глебу особо запомнился первый ночлег. Небольшая крестьянская горенка. По карнизам бордюр из тарелок с искусной росписью, как принято здесь украшать стены. Хозяйка дома — уже пожилая молдаванка, со строгим лицом и иссиня-черными волосами, собранными в пучок. Ее мужа-партизана расстреляли румынские каратели, на ее глазах убили ребенка.
— Что слез пролито! — взволнованно рассказывает женщина. — Всех бы их, извергов, в тех слезах перетопить можно.
Час за часом бойцы расспрашивают женщину, партизанскую мать.
— Грамоту искореняли, как заразу, — с горечью рассказывает она. — Сколько школ пожгли — не счесть! Есть у нас село, Малоешти называется. Выкатили против школы пушку, и ну палить.
— А партизаны? — не утерпел Зубец.
— У нас тут небольшой отряд, а двести немцев перебили, три эшелона под откос пустили. Наши молдаване хорошо воевали.
— Они и на фронте геройски бились.
— Расскажите, расскажите, — упрашивали женщины, которых-немало набралось в избу.
— Вот в боях за Днепр отличился Парфений Балуца, — сказал Глеб. — О нем все газеты писали.
— Да?
— Отважный воин. Он первым переправился через Днепр. У него была горсточка людей, и они сутки бились с немцами, пока подоспели другие.
— Герой!
— А на Волге Мария Лесовая отличилась. Тоже молдаванка.
— Расскажите, расскажите, пожалуйста!
— Ехала она с фронта, раненых везла в машине. А тут откуда ни возьмись — немцы. Шофера убили. По машине палить стали. Казалось, конец всем. Ан нет! Отважная девушка не растерялась и первой открыла ответный огонь.
— Ох, девушка!
— И знаете, всех перебила, хоть и сама была ранена. Из последних сил села за руль и привезла раненых.
— Ох, красавица!
— Берите и нас в Красную Армию! — с готовностью заявил хрупкий паренек, уже воевавший тут в партизанах.
— Что ж, — сказал Глеб, — идите к полковнику.
1
Утром партизаны привели человека, схваченного ими в соседнем городке.
— Пустите, я американец, я союзник! — вырываясь из рук, кричал он то по-английски, то по-немецки.
Глеб поднял руку, и американца отпустили. Низкорослый, с изрядным брюшком, на толстых коротких ножках, он походил на разъяренного кабана, готового кому угодно перегрызть горло. Ни тыквообразная голова с оттопыренными ушами, ни оплывшее лицо, ни злые рысьи глаза, спрятанные в глубоких глазницах, — ничто в нем не вызывало симпатии.
— Ух и чушка! — сорвалось у Соколова.
— Кто такой, в чем дело? — строго потребовал Глеб.
— Уф! — произнес толстяк, запыхавшись, утирая лоб холеной короткопалой рукой.
Лица бойцов прояснились и потеплели. Союзник, оказывается. Человек из другого мира, который вместе с нами против фашизма. Сразу исчезла настороженность и ирония. К другу нужно относиться по-дружески. И пока Румянцев просматривал документы, разведчики оживленно обсуждали ситуацию.
— Наверно, в плен угодил, не иначе.
— А может, и война застала в Германии.
— Думаешь, интернирован?
Бойцы охотно жали ему руки, дружески хлопали его по плечу, бесхитростно выражая чувства одобрения. Стали было угощать махоркой, но повеселевший американец вынул вдруг пачку дорогих сигарет.
— Ого, богато живем, — крякнул от удовольствия Голев.
— Верно, скрывался, сберег, что ли? — удивился Зубец.
— Его, братва, угостить надо. Как-никак, первая встреча с союзником, — сказал Глеб. — В фляжках, надеюсь, у всех есть? Давай кружки, грамм по сто разрешаю. Пусть помнит русских!
— А закуска? — забеспокоился Зубец.
— Давай из «ЭНЗЭ»: ситуация, брат, особая, — нашел выход Глеб.
— Прямо банкет на марше! — обрадовался кто-то.
Румянцев дочитал документы, составленные на английском и немецком языках. В самом деле американец. Но Яков в недоумении вертел в руках слишком аккуратно отпечатанные бумажки. Как новенькие.
— Не спешите с банкетом, — иронически бросил он разведчикам и, уточнив через переводчика содержание документов, обратился к американцу: — Значит, Шпетер Кларк, из Нью-Йорка, фирма Дюпон.
Кларк согласно закивал головою.
— Почему же здесь, у немцев?
Молодой партизан Урсул коротко объяснил, что американец с группой своих помощников и канцелярских служащих прибыл из Германии, производил какие-то заготовки и грузы отправлял в Рур.
В итоге длительного опроса выяснилось, что сам он крупный агент одной из фирм Дюпона, имеющей большие интересы в Германии, и он, Шпетер Кларк, один из тех, кому поручена «мирная деятельность» в Германии во время войны. Затруднения с сырьем заставили его выехать в Румынию.