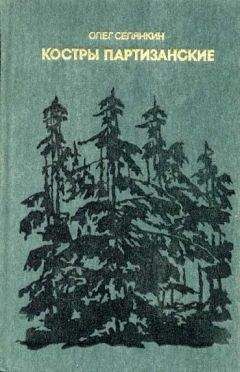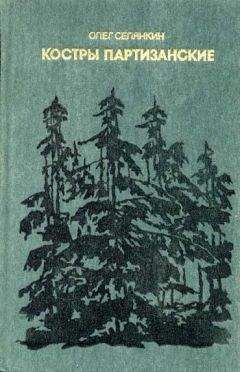— Это я, дядя Гриша.
Петро, черт конопатый!
Григорий метнулся к входу в шалаш, нарочно громко спросил у дневального: а сколько сейчас времени? И громогласно жаловался на комаров все то время, пока тот бегал к товарищам, чтобы точно ответить на его вопрос.
Пробравшись в шалаш, Петро цепко ухватил Григория за руку и долго молчал, сдерживая волнение. Потом не вытерпел, спросил:
— За что он тебя арестовал?
— С чего ты взял? Просто отдыхаю.
— Что я, маленький?
Сколько ни бился, не смог переубедить Петра. Тогда и сказал полуправду:
— Понимаешь, завтра тонкая работа предстоит. Мне как подрывнику. Вот и приказал Иван отдыхать. Чтобы завтра в руках дрожи даже самой малой не было.
— Не врешь?
В это время дневальный остановился около входа в шалаш и спросил:
— С кем ты там разговариваешь? Или меня звал?
Григорий поспешно ответил:
— Понимаешь, холодновато что-то. Одежонки какой не найдешь?
Скоро дневальный сунул в шалаш кожух. Прикрывшись им, замерли. Григорий лежал с открытыми глазами и гладил рукой вихрастую голову Петра, его детские, еще угловатые и костлявые плечи и тихонько нашептывал, что новое задание, конечно, потребует ювелирной работы, да разве ему, Григорию, это впервой?
— А вот кончится война, поедем ко мне. Знаешь, какого слесаря-водопроводчика из тебя сделаю?
— Не, я на офицера учиться буду. Как Константин Яковлевич.
— А что? И на офицера за моей спиной запросто можешь выучиться…
Долго они говорили о будущей жизни. Хорошо, тепло говорили. И Петро наконец поверил, что все так и будет. Поверил — прошептал:
— Ты спи, дядя Гриша, отдыхай, а я просто полежу с тобой. И уползу перед самым рассветом, чтобы товарищ Каргин не узнал. Знаешь, какой он ругачий, когда разозлится?
Пообещал не спать, а сам скоро уже засопел носом, доверчиво уткнувшись лицом в грудь Григория. И тот, чтобы не вспугнуть его сон до вторых петухов, прооравших в близкой деревне, лежал не шелохнувшись. И все думал, думал…
21
Утром, когда партизаны еще лениво потягивались в своих шалашах, Каргин ввалился к Григорию и, сияя глазами, сунул ему под нос бумажку. И тот прочел; «Мост взорван, подрывников не надо». Ниже этих слов была подпись командира бригады.
А Каргин не давал возможности полностью прочувствовать всю радостную глубину случившегося, почти силком тащил Григория за собой:
— Айда ко мне! Знаешь, Марья какую уху сварганила? Все наши уже там, тебя ждут!
До чего же радостно глядеть на солнышко, поднявшееся над лесом! Вон и жаворонок, распластав свои полупрозрачные крылья, заливается в голубом небе!
— Отряхни левый висок, — каким-то деревянным голосом просит Каргин.
Григорий рукавом пиджака старательно утюжит волосы. И вдруг видит, как дрогнуло что-то в лице Ивана, закаменело. А еще через секунду Каргин сказал:
— Ладно, хватит мозолить…
Пока шли к шалашу, который был почти рядом, многие партизаны лишь пристально глядели на левый висок Григория. А Мария, взглянув на него, сразу же прижала руки к вдруг побелевшим щекам. Тогда он взял обломок зеркала, торчавший из кармана гимнастерки Марии. И увидел, что его левый висок будто инеем подернулся.
Григорий помолчал какое-то время, потом сказал то ли шутливо, то ли серьезно:
— Видать, тут самая слабая нерва была…
А сразу после обеда — еще не успели сполоснуть котелки и ложки — приехало начальство. И бригадное в полном составе, и гражданское, и военное, вплоть до какого-то генерала, грудь которого сияла от орденов и медалей.
Когда построились, командир бригады ровным голосом сказал, что отныне партизанской бригады не существует, что все, кто по годам подлежит мобилизации, завтра же должны явиться туда-то на предмет продолжения службы теперь уже в рядах Советской Армии. А прочим — можно идти домой.
Потом дрогнувшим голосом поблагодарил за службу, большого счастья всем пожелал.
Но эти слова почему-то скользнули мимо сердца, не запали в него.
Давно, с самого начала, все знали, что случится именно так, и все равно стало грустно, даже немного больно. Потому ночью у костров, вокруг которых сидели теперь уже бывшие партизаны, звучали лишь тоскливые песни или неспешно велись беседы о том, что союзники наши наконец-то все же осмелились открыть фронт, что ихние поиски патрулей дело, конечно, нужное, полезное для общего котла, но куда ему до того, что сейчас вершит родная Советская Армия!
Но больше всего говорили о будущей, послевоенной жизни. Нет, в мечтах высоко не заносились, просто уверенно заявляли, что уж теперь-то они знают, как работать и вести себя надо, чтобы подобного ужаса никогда не повторилось.
И обменивались адресами, уславливались о будущих встречах.
Только товарищ Артур никому не давал своего адреса, никого не приглашал к себе в гости. Он в пояс своих шаровар зашивал патроны от трофейного пистолета. Зашивал неторопливо, обстоятельно, стараясь каждый патрон уложить так, чтобы миллиметра свободного места не осталось. Все, кто сидел у этого же костра, видели, чем он занимался. Но никто не спросил, зачем ему эти патроны; уже знали, что товарищ Артур прямо отсюда пойдет в родные края, что появляться там без оружия ему никак нельзя.
Одобряли товарищи его намерения. Кто-то даже посоветовал для пистолета специальные петельки пришить. С внутренней стороны пиджака. Чтобы никто случайно не обнаружил «пушку» на контрольных пунктах, где у товарища Артура обязательно будут проверять документы.
У небольшого костра сидели и Каргин, и Василий Иванович, и те, кто с ними наиболее близок был. Григорий с Юркой, разумеется, уже проявили инициативу, и отблески костра весело плясали на боках четверти с самогоном. Только не пилось сегодня, и все тут! Конечно, выпили по одной и сразу же словно забыли, что четверть еще лишь ополовинена.
Сидели у костра, смотрели на веселые языки пламени и молчали. Наконец Василий Иванович спросил с наигранной бодростью:
— Чего же мы в молчанку играем? Или нам при расставании друг другу и сказать нечего?
— А зачем говорить-то, если мы не только сегодняшние, но и будущие мысли дружков наперед знаем? — нехотя буркнул Григорий и потянулся к четверти с самогоном: — Может, опрокинем еще по одной? Чтобы дома не журылысь, чтобы на душе посветлело?
Не помогло. Лишь изредка бросая почти ничего не значащие фразы, так и не развеселившись, просидели у костра до утренней зорьки. Взошло солнце, глянулось в лужицы, оставшиеся от недавнего дождя, — без команды, без чьего-либо приказания стали собираться в путь. А потом, старательно затоптав костры и еще раз простившись с друзьями, небольшими группами потянулись к тракту, чтобы там дождаться попутчиков и дальше шагать уже вместе, — если повезет, до самой победы вместе шагать.
Дольше всех у костра засиделись Каргин и его товарищи. Наконец и они стали прощаться. Без громких фраз. Просто обнимали друг друга и замирали на несколько секунд. Потом кто-то первым говорил: «Ну, бувай». Или что-то подобное. И шли своей дорогой, ни разу не оглянувшись.
Не от черствости, а чтобы еще раз не бередить свое сердце.
Юрка, Григорий, Федор, Виктор с Афоней и Серега Соловейчик ушли вместе, привычно закинув автоматы за спину. Шли вместе, шли в ногу, в душе тая надежду, что на сборном пункте, куда им надлежало теперь явиться, начальство учтет их дружбу.
Теперь только дед Потап и Петро еще оставались с Каргиным и Василием Ивановичем. Молча смотрели, как они проверяли оружие и укладку своих вещевых мешков. Заговорил дед Потап и лишь тогда, когда Каргин обнял его:
— Маруська пусть у меня в хате хозяйничает, так что… Деревню-то ихнюю, отступая, фашисты под корень уничтожили… Ну, как говорится, огонь и вода не во вред вам, а вовремя!
На том и расстались.
Огонь и вода не во вред вам, а вовремя…