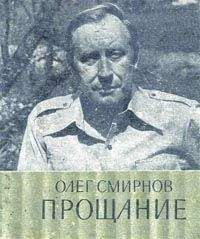— Не сегодня. На днях решим…
И все замолчали, и он понял: молчат о Лободе. В этом молчании ему слышались слова о том, каким был Паша. Не произнесенные, они не звучали всуе, пустым утешением. Вспомнили о главном, что было в характере и судьбе этого человека, и попрощались с ним и попросили у него прощения за то, что он мертв, а они живые. Помолчавши, заговорили кто о чем. Емельянов неожиданно стал рассказывать:
— До мангруппы я служил политруком на линейной заставе. Чудно: житель я насквозь городской, родился и жил в Витебске, клешем тротуары подметал, от земли далек был. А попал на заставу, и словно проснулся во мне крестьянин. При командирском флигеле — огородик, сад, ну и копаюсь. Как свободный час — на грядки или к яблоням да вишням. И что ж вы думаете, друзья дорогие? Огородничество мое, садоводничество кончилось так: вызывают меня в политотдел отряда и сплеча: «Личным огородом занялся в ущерб службе? Небось, жена на рынке поторговывает?» Объясняю: не в ущерб службе, а помидоры, огурцы, яблоки с вишней мы с женой отдаем в красноармейскую столовку…
Ни к селу ни к городу вроде бы это воспоминание Емельянова, однако Скворцов благодарен комиссару: его рассказ напомнил о Вите Белянкине, который с Кларой тоже любил потюкать на грядке тяпочкой, потаскать лейку. Правда, в политотдел его не вызывали. Политрука Белянкина тоже можно почтить молчанием… Посреди этого разговора в землянку без спроса вошла Лида: стукнула дверью, не поздоровавшись, села на лавку перед Скворцовым. Он спросил:
— Что случилось, Лида?
— Ничего особенного. Если не считать, что повесили начальника особого отдела Лободу.
Скворцов переглянулся с Емельяновым, осторожно сказал:
— Мы разделяем твое горе. Лобода был нашим товарищем.
— Не надо разделять! Мне другое надо!
— Что? — с той же осторожностью спросил Скворцов.
Лида отвечала ему отрывисто: ее неправильно отстранили от задания, жалеючи, а она хочет сегодня идти на связь, как и было намечено. Вмешался Новожилов: не посылаем потому, что нанесена душевная травма, могут нервы подвести, задание же чрезвычайно ответственное, зачем рисковать и заданием и безопасностью связной? Лида сказала:
— Да поймите: мне легче будет от сознания, что я дело делаю, мщу за гибель Павла. Верю: Павел бы одобрил, что я в тяжкую минуту не раскисаю. Он же учил: долг — превыше всего.
— Мы посоветуемся, — сказал Скворцов. — Сообщим тебе решение Военного совета.
— Не разводите бюрократизм, товарищи командиры, — сказала Лида. — Я обязана идти на задание, только такому решению я подчинюсь…
— Ультиматумы? Нельзя ль напомнить о дисциплине? — сказал, краснея, Новожилов, но Емельянов дернул его за рукав, и тот осекся, покраснев еще пуще. И уж совсем загорячился Новожилов, когда выяснилось: Скворцов. Емельянов и Федорук за то, чтобы не отменять задания Лиде. Распалясь, он сказал: — Я снимаю с себя ответственность!
Скворцов пристукнул кулаком по столику:
— Чтоб я больше никогда не слыхал этой фразы! Ни от кого! Никто не снимет с себя ответственности. И ты, Новожилов, тоже. Отвечать будешь. И потому прими максимум мер, проработай с Лидой задание еще и еще. Понял?
Начальник штаба очень уж обиделся на резкость Скворцова и, главное, на то, что командир отряда подключился к подготовке связной. Действительно, Скворцов вдруг решил: ум хорошо, а два лучше, проверю-ка я все лично. И вместе с самолюбиво краснеющим Новожиловым инструктировал угрюмую, замкнувшуюся Лиду. «Девчонка», — с жалостью и болью думал он о ней. О Новожилове сочувственно думал: «Мальчишка». И лишь о себе подумал: «Зрелый мужчина», — с усмешкой. После инструктажа и сборов он сам, один, провожал ее на задание. Накрапывал дождь, во мраке тонули кусты и деревья, лесная тропа — и они двое на тропе. Они шли рядом, не касаясь плечами, хоть тропа была неширокая. Он вспомнил: когда-то эта девушка почти так же провожала его на боевую операцию, она тогда любила его, а он не любил ее тогда и не любит сейчас. Но, прощаясь, он бы поцеловал ее как младшую сестру. Однако не позволил себе этого. Крепко, по-мужски пожал узкую горячую руку, сказал:
— Возвращайся благополучно.
Она не ответила, поправила заплечный мешок и сошла с тропинки в кустарниковую гущу. Он постоял, прислушиваясь к удаляющимся шагам, и повернул к лагерю. Они уходили друг от друга, а ему казалось, что они идут рядом. И в землянке, на нарах, продолжало казаться: вместе идут на связь. Он воображал зримо: Лида на окраине села, оклик: «Хальт!» — под нацеленным автоматом она достает из-за пазухи аусвайс, патрульные проверяют удостоверение личности, старший автоматом показывает: проходи, и она под нацеленными взглядами удаляется без поспешности — дальше, к другим патрулям, немецким и полицейским, которых на ее пути, что поганок на сырой опушке. Документы сработаны надежные, но всяко ж бывает, мало ли что может вызвать подозрение. А если начнут обыскивать? Тогда наверняка конец: с ней листовки, перепечатанные сводки Информбюро…
Заворочался в своем закутке Василек. Скворцов встал, склонился над мальчиком, поправляя одеяло. Играть бы ему в игрушки, а он ходит связным — и один и в паре с кем-нибудь, с Лидой тоже ходил. Василек дышал неровно, с хрипотцой, волосы спутались, под одеялом угадывалось щуплое тельце. Спи, малец. Плохо, что я стал уделять тебе мало внимания. Но ты извинишь: обстановка сейчас напряженная, отряд отнимает день и ночь. А где в этот час Лида? Наверное, полночь? Взглянул на светящийся циферблат: пять минут первого. Умением определять время без часов он поражал Новожилова, а Лобода — Будыкина. Но удивляться нечему: пограничная служба приучила их и днем и ночью определять время, ошибки незначительные: пять — десять минут. Да, первый час, и Лида, может быть, из одного села шагает в другое глухим урочищем, где злые ветры и злые люди. Одна-одинешенька. И над ней шумит, как ноябрьский ветер, то же тревожное, опасное время. Побереги себя, Лида! Он подумал о партизанских связных. Достается им. Один на один с врагами, в окружении врагов. В отряде ты среди своих. В армии, на фронте тем более. Это великая штука — находиться среди своих, и смерть не так страшна. А постоянно быть окруженным немцами и полицаями — тут требуется исключительное мужество, и проявляют его женщины, старики, дети. Под утро Скворцов задремал, замельтешили сны: снежное поле с заметаемыми могильными бугорками, другое заснеженное поле с подбитыми танками и пушками — будто это под Москвой, пограничная вышка, контрольно-следовая полоса,. огибающая заставу, — будто это на Дальнем Востоке. Под конец привиделось, будто он обнимает и целует женщину, это была не Ира и не Женя, какая то незнакомая ему женщина была, которая его тоже целовала и обнимала. Он пробудился с явственным, незаспанным чувством вины за то, что такое приснилось ему, потерявшему Иру и Женю, теряющему боевых друзей.
В Москве, и в ее пригородах, и во всем Подмосковье — морозы и метели. Черные промороженные тучи днем и ночью угрюмой вереницей плывут с востока на запад, стелются над лесами и полями, сыплют сухим колким снегом. А навстречу им с запада на восток ползут рыхлые и рваные темно-серые облака, чреватые дождем и мокрым снегом. И кажется: они несут друг другу вести… Эта весть дошла до партизан Волыни, как дошла она до всех континентов, и было это сообщение Совинформбюро от 12 декабря 1941 года «О провале немецкого плана окружения и взятия Москвы».
Это сообщение принимал присланный Волощаком новый радист; добрую рацию в отряд подкинул тоже Иосиф Герасимович, предупредив, однако, Скворцова: посылаю на время. Отличный радист и отличная рация как нельзя поспели: Москва для записи начала передавать о контрнаступлении. В землянке было жарко натоплено, со лба радиста, совместно с доктором филологии записывавшего текст, капало; листочки с беглыми карандашными записями они передавали Скворцову, тот — Емельянову, Емельянов — Новожилову, Новожилов — Федоруку. Читали молча, чтобы не помешать радисту, но у всех радостно блестели глаза, лица разрумянились, дрожащие от нетерпения руки выхватывали у соседа бумажку. Передав последний листок Скворцову, радист сорвал с себя наушники и крикнул:
— Победа! Товарищи, с победой!
И все зашумели, задвигались, хлопая друг друга по спинам, пожимая руки; у выдержанного, подтянутого Новожилова выступили слезы, старый коммунист Федорук перекрестился. Крутившийся здесь же Василек сказал во всеуслышание:
— Дядя Игорь, а вы улыбаетесь!
Командиры посмотрели на Скворцова, и он сам как бы глянул на себя. Улыбается! И он подумал, что после июня, наверное, ни разу еще не улыбался. А затем подумал о Паше Лободе, который совсем немного не дожил до победы под Москвой, и о других, не доживших до этой победы значительно больше. А затем он подумал о тех пограничниках, что сражаются нынче под Москвой, и о тех, что несут свою прежнюю службу на востоке и на юге, не позволяя нарушать государственную границу. Вместе с полевыми частями они сковывают японские войска и, возможно, турецкие. Эти государства, видать, не прочь бы ввязаться в войну, используя ситуацию. Но теперь она, ситуация, будет меняться в нашу пользу!..