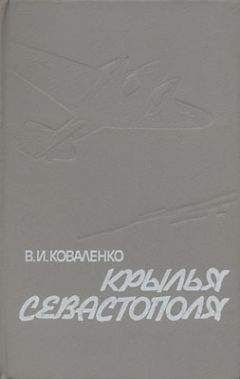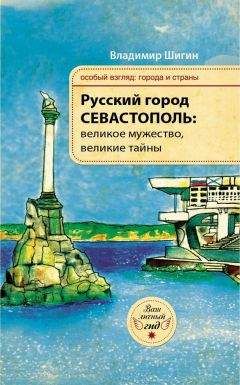— И он прав! — горячо подхватил капитан-лейтенант. — Дело не в перефразировке. Для того книги и создаются, чтобы помогать нам любить и ненавидеть. Я подарил ему книгу на день рождения, потому что сегодня нашему Кирюше исполнилось пятнадцать лет. Только пятнадцать. Из них он год воюет, до сих пор неплохо, а отныне, после того как он пробежался через весь город к матери и своими глазами насмотрелся на все, что сделали фашисты с нашим Севастополем, думаю, что по-настоящему ощутил, какой силой ненависти обладает.
Капитан-лейтенант прислушался к залпам орудий.
— Немцы бомбили наши батареи день-денской, рассчитывая подавить их, — сказал он. — А вот, узнаёте?..
Он стал называть огневые точки по знакомым с первого дня осады голосам: Малахов курган, Сапун-гору, тридцать пятую батарею, кочующие зенитки, стреляющие прямой наводкой по наземным целям Северной стороны. Потрясая ночь, над гулом залпов изредка слышался мощный раскат выстрела двухсотдесятимиллиметровой пушки, бьющей с участка артиллерийского училища по скоплениям немецко-румынских войск. Ее рык звучал басовой октавой в грохоте канонады. Симфония ночного сражения гремела вокруг города. Все теснее сжималось вокруг Севастополя кольцо смерти, но он продолжал сопротивляться до последнего снаряда, до последнего патрона, верный традициям черноморской стойкости, о которой тихо пели в эту минуту краткого отдыха на стоянке матросы сейнера «СП-204»:
…Раскинулось Черное море
У крымских родных берегов.
Стоит Севастополь в дозоре,
Громя ненавистных врагов!..
Часть вторая. Когда дует бора
Нет на Черной поре бедствия более ужасного для кораблей и жителей северокавказского побережья, чем ураганный ветер от норд-оста, называемый по-местному борой…»
Лоция
Тягучая песня плыла под скрип деревянных переборок. Заунывный напев ее рождал тоску:
…За нами родимое море,
И рвутся снаряды вокруг.
Дымится в развалинах город.
Смыкается вражеский круг…
Тусклый свет фонаря-летучки, подвешенного к верхней ступени крутого трапа, не мог рассеять теней в углах тесного помещения. Язычок пламени послушно выгибался из стороны в сторону, повторяя движения раскачиваемого зыбью судна. В неверном, колеблемом свете виднелись вдоль борта четыре койки в два яруса, на противоположной стене сверкала металлическая оправа массивных часов с морским суточным циферблатом, блестело зеркало с трещиной наискось; оно уродливо раздваивало отражение верхних коек.
Обе верхние койки были заняты: на дальней смутно темнела фигура человека, лежащего лицом к стене, на ближней к трапу облокотился на подушку погруженный в чтение книги подросток в полосатой матросской тельняшке.
Под ним, на нижней койке, рядом с узким столом, уселись два моряка в шапках и ватниках и простуженными голосами тянули песню. Один из поющих — широкоплечий и, должно быть, очень высокий ростом, потому что он почти упирался головой в настил верхней койки — подыгрывал на баяне.
…Мы долгие месяцы дрались в кольце,
За свой Севастополь сражались.
Дома эти, улицы, камни его
Недешево немцу достались…
Хриплые голоса певцов были подстать погоде: стенаниям ветра, шуму волн, толчкам их ударов.
Всхлипы баяна и протяжные слова песни, звуча горьким напоминанием, отвечали настроениям многих, кто проводил глухую осеннюю пору конца ноября 1942 года у северокавказского побережья Черного моря.
Скрытая от взоров моряков, погруженная в непроницаемую мглу за стенами кубрика, кипела студеной зыбью миниатюрная гавань.
На ее рейде отстаивался в числе других судов малого, или, по-местному, «тюлькина», флота севастопольский сейнер «СП-204». Бесформенными пятнами шевелились во мгле моторные боты, шхуны и сторожевые катера, а вокруг них, обступив прибрежье, теснились округлые контуры зданий. Ни один огонек не светился в них, ни одна звездочка не мерцала в заволоченном тучами небе. Только стремительные лучи прожекторов, установленных на подступах к базе, время от времени взметывались вверх, сверлили серую толщу туч и торопливо шарили в небе. Косые отблески лучей спадали к взморью, текли меж рядами построек, и тогда перед глазами людей вырисовывалась знакомая каждому черноморцу панорама курортного поселка, известного под красивым названием Солнцедара.
Война вплотную придвинулась к нему.
Около пяти месяцев миновало с июньской ночи, когда флотилия сейнеров совершила рискованный рейс от Минной пристани осажденного Севастополя в бухту Матюшенко и вывезла оттуда защитников Северной стороны. Многое изменилось с тех пор. Линия фронта переместилась далеко на восток, вдоль побережья Черного моря. Пал как герой, сражаясь до последнего патрона, Севастополь. Немцы вторично маршировали по разоренным ими проспектам Ростова-на-Дону, расползлись по станицам Кубани и Северного Кавказа, подбирались к нефтяным промыслам Грозного и через калмыцкие степи прорвались в излучину Нижней Волги. Третий месяц, не затихая ни на минуту, длилась неслыханная в истории битва у Сталинграда. В самом разгаре ее обозначилась и уже больше не сдвинулась на восток линия крайнего левого фланга исполинского фронта: на окраине Новороссийска, на восточном берегу Цемесской бухты, между мертвыми цементными заводами, близ Солнцедара.
Началась позиционная война в предгорьях, завязались артиллерийские дуэли через бухту, а вскоре наступил период нарочитого затишья. Рекогносцировочные походы, совершаемые сейнерами, час от часу подтачивали немецкую оборону и подступы к ней. В любое время, но предпочтительно ночью, в любую погоду, но чаще всего в штормовое ненастье, сейнера пробирались к захваченному немцами западному берегу, к расщелинам в скалах Мысхако, Широкой балки и Утриша, к голым отмелям и соленым озерам Тамани, высаживали разведчиков на тыловые коммуникации врага или принимали их на борт после выполнения задания. Таков был круг обязанностей всего «тюлькина флота». Сейнера покидали гавань Солнцедара и возвращались в нее невидимо для посторонних глаз; с утра же до ранних сумерек сонно покачивались на внутреннем рейде, мало похожие на боевые корабли.
Люди сейнеров жили суровой затворнической жизнью, которая на флотском языке имеет название готовности номер один, и редко сходили на берег. Война приучила их к постоянному бодрствованию. Они держались начеку даже в ту пору, когда непосредственная опасность была вдалеке от них. Вынужденное безделье в свободные часы между рейсами располагало к думам обо всем, что пережил каждый с начала войны. И тоскливая песня, которую в унисон ветру тянули два моряка в кубрике сейнера «СП-204», как нельзя больше отвечала их настроению:
…Пускай мы погибнем в неравном бою.
Но братья победы добьются.
Взойдут они снова на землю свою,
С врагами сполна разочтутся.
— Да перестаньте! — раздался сердитый голос с верхней койки. — Душу по жилам тянете!.. Сыграй, Кеба, другое.
С этими словами, отложив книгу, на палубу спрыгнул подросток в тельняшке.
Теперь было нетрудно узнать в нем севастопольского моториста Кирюшу Приходько. Его коричневое от вечного загара, худощавое лицо, сохранив знакомые черты, неуловимо изменилось за пять месяцев, истекших с того дня, когда Кирюша был вывезен из осажденного Севастополя. Суть перемены ускользала от поверхностных наблюдателей, хотя даже те находили, что подросток вроде и возмужал. Дело было не в одной внешности, Кирюша выглядел попрежнему щуплым и малорослым. О перемене красноречивее всего говорил его взгляд, в котором почти не осталось мальчишеской беззаботности.
Баян и певцы умолкли.
— Слушаюсь, Кирилл Трофимыч! — шутливо отозвался рослый моряк с баяном. — Прикажешь любимую?
— Ага. И подвинься чуточку, а то, как линкор, всю гавань занял.
Сверху послышался короткий смешок. Лежавший лицом к стене человек заворошился и сел на койке, свесив босые ноги. В его обвислых густых усах заплуталась улыбка.
— Ты сегодня петушишься, что кочет, Кирюшка, — басом проговорил он. — И песня не та, и места мало…
— Он за бритву отыгрывается, — сказал моряк с баяном, — так что смейтесь над своим мотористом, товарищ механик.
— За какую бритву? — удивился усач.
— Кеба! — взмолился подросток. — Я же просил тебя по-хорошему…
— Значит, секретный договор заключили?
— Никакого секрета, Андрей Петрович, — стараясь выказать равнодушие, ответил Кирюша. — Просто у Игната Кебы язык чешется, как у дошкольного байстрюка.