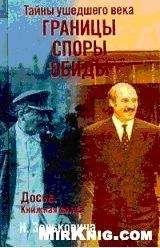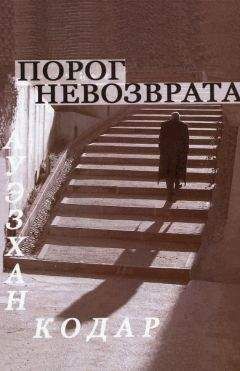Ольга-то знала: Евдоким Никитич был честен до щепетильности. На первых порах жизни в колхозе, осенью, она раз увидела такую картину, зайдя в переднюю избу. Евдоким Никитич, взяв за нижние углы мешок с картошкой, вытряхнул содержимое посередь пола — только пыль столбом.
— Смотри, Ольга, что натворила моя старая кикимора! — злой, побагровевший шумел на весь дом Евдоким Никитич. — Картошку приготовила для поставок. А на дне-то мешка вон сколько песку!
Павлиновна стояла тут же, скрестив на груди руки. Конечно, она не из тех, чтобы промолчать. Тотчас подала голос:
— Много ли там песку-то, ворчун старый! Смотри — напылил…
— Много ли? А это что? — указал Евдоким Никитич на сыпучую землю, покрывшую ворох картошки.
— Один совок всего-то.
— А зачем, я тебя спрашиваю?
— Зачем… — усмехнулась Павлиновна. — Ровно не знаешь. У всех картошка с землей, а у нас как вымытая.
— Значит, надо сыпануть этой дряни? Не удалось схитрить? Песок-то ведь на дно осел.
— Кабы я знала…
— Не дура ли? Жена председателя… Опозорить хотела на весь район мою партийную совесть!
Другой случай удивил Ольгу не меньше. Как-то попросила она у Евдокима Никитича с колхозного склада меду для Саши — простыл, видно, горлышко побаливало, кашель душил.
— Не могу, Ольга! — как отрезал председатель.
Она не поверила своим ушам, — шутит, думала.
— С ложку всего-то.
— Ложку или пуд — все одно. Кто проверит? Не оберешься нареканий.
— Да что уж так?..
— Вот так. Не обижайся. Ты лучше сходи вон к Савватию Ильичу. У него своя пасека. Даст без слова.
Не удалось уговорить.
И вот такого человека Венчик хотел обвинить в краже колхозного добра!
Председатель сельсовета знал неподкупную честность Евдокима Никитича, но все же проверил сообщенный Жилкиным факт. Ольге невзначай пришлось стать свидетельницей. Она знала, что было в том мешке, который Евдоким Никитич притащил домой, согнувшись в три погибели. Да и не одна она знала. В мешке были обычные древесные опилки. Их когда-то привезли для разных нужд с лесопильного завода. Евдоким же Никитич опилками утеплил потолок Ольгиной зимовки.
* * *
Настала холодная дождливая осень.
Ольга, ранее не думавшая, что придется ей зимовать в колхозе, теперь поняла: будет ли весточка от Василия или не будет, все равно деться ей некуда — надо жить зиму у родных Ирины, работать в «Авроре».
Война затягивалась, и того близкого ее конца, в который верилось, когда фашисты напали на Советский Союз, не было видно. Немцы лезли в глубь России, к Москве. Было страшно за судьбу Родины, за людей, за тех, кто воюет на фронте, кто попал в оккупацию, за себя, живущую за тысячу верст от боев.
В колхозе оплакивали смерть уже не одного Славы. Горе успело постучаться во многие избы. И Ольга к сердцу принимала каждую такую весть, будто ей адресованную. Невеселые думы захлестывали неуемным половодьем. Она долгим грустным взглядом смотрела на своего Сашеньку, шептала ему слова жалостные, трогательные — и самой от этого хотелось плакать.
А тут еще придумала из Васильевой шинели шить себе пальто.
Был вечер. В зимовке горела керосиновая лампа.
Ольга положила шинель на колени, чтоб начать пороть, и вдруг пахнуло чем-то знакомым, давним, родным, словно подошел сзади невидимый Василий и вот-вот нагнется, положит руки ей на плечи, коснется волос, поцелует шею… Часто-часто забилось сердце.
Шинель еще сохранила запах любимого человека, и уж не остановить было Ольге воспоминаний. Да если б только одни воспоминания! Порола шов за швом, и потому что шинель, эта последняя память о муже, распадалась на куски — где пола, где спинка, где рукав — ни единого целого шва, Ольгу мучило предчувствие: уж не так ли будет и с нею — наперекор желанию, круто, безжалостно рухнут все ее надежды?
Она уткнулась в серое шершавое сукно шинели и тихо заплакала. И она, может, разрыдалась бы, если б не пошевелился и не хныкнул в зыбке Саша.
А спустя час, когда с мельницы вернулась Ирина, Ольга, уже успокоившись, кормила грудью Сашу. Она успела наворковаться с ним о том, что ему, ее радости, скоро стукнет четыре месяца, что он — тот следочек, который остался от папы, самая большая память о нем, его частица, его кровинка…
— Околела, промерзла вся! — видя, что ребенок не спит, шумно пожаловалась Ольге Ирина. Она сбросила с себя мокрый брезентовый плащ, сняла телогрейку, резиновые сапоги. — Еще хорошо, не завозно на мельнице, быстро смололи.
— Сейчас самовар поставлю, отогрею тебя, — сказала Ольга и, уложив Сашу в зыбку, качнула подвешенные над ним бубенчики.
— Поставь, пожалуйста, — откликнулась Ирина. — Я на печи покалюсь… А ты сегодня в хорошем настроении. Молодчина! — похвалила она Ольгу, шагнув на приступок.
— Не все плакать, — улыбнулась та в ответ.
У них продолжались добрые отношения. Ольгу Ирина уважала и нервы ее берегла — старалась не обидеть необдуманным словом.
Ирина улеглась на печи и, глядя в потолок, долго молчала. Потом, вспомнив что-то, ругнулась:
— Старый кривой черт!
— Ты о ком это? — спросила Ольга.
Ирина повернулась со спины на живот, выглянула из-за трубы.
— Ездила сегодня с одним. Ты, наверно, знаешь его. Еремей. Из той деревни, — кивнула она вправо. — В молодости колол дрова и щепа в глаз угодила, окривел на всю жизнь. Старик уж. Так вот, я за мешок, а он, — усмехнулась, — не дает, сам тащит, бережет, вишь, меня. И всю дорогу побасенками угощал. «От вас, — говорит, — от городских, скусно пахнет, не то что от моей Густи». Говорю ему: «Хорошо, старуха твоя не слышит эти комплименты, а то бы задала тебе». — «Старуха, — говорит, — давно уж к себе не подпускает, брыкается. Так что знай — свободный казак я». Старый пень! Подумай, туда же…
— А ты, значит, от ворот поворот? — подкладывая углей в самовар, шутливо спросила Ольга. — Не везет тебе на женихов.
— Верно… — Подумала и добавила: — Болтаю всякую всячину, а на душе у самой!.. — Вдруг умолкла, точно кто зажал ей рот. И лишь через несколько минут тихо, изменившимся голосом сказала: — Все-таки рано с этих лет никем не приласканной вдовой жизнь коротать… У тебя другое положение. У тебя Василий, может, вернется. А Сашка вон…
Ольга промолчала.
Вскипел самовар, и Ирина слезла с печи.
Пили чай с топленым молоком. За столом Ирина опять завела разговор о женихах — на этот раз вспомнила свою девичью пору:
— Девка я была ничего, как у нас говорят, матерушшая, баская, работяшшая. Одна дочь у отца с матерью, остальные — парни. В живых — самый старший и тот по разделу, к нашим неласковый из-за стервы жены, живет верст за пятнадцать отсюдова. А еще было двое — умерли маленькими. Так вот. Стали ко мне сватов засылать. Один из своей деревни, двое из соседних. Ломалась, кочевряжилась — не пошла ни за которого. Наш-то деревенский по уши влюблен был. Ты не знаешь его. На фронте. Ванька, Нинки Пашенькиной муж теперь. Говорил, назло мне женился на ней. И парень подходящий, видный, а уж больно надоедный, прилипчивый. Не любила — и все! Завлек чужой, незнакомый. Из Белоруссии.
— Да как же тебя с ним судьба свела?! — удивилась Ольга.
— Слушай. Наш колхоз поставлял в город одной воинской части капусту, овощи. И я не раз бывала. Он, мой-то суженый, старшиной там служил. Бравый. Заметил. Потом как-то к нам на гуляние приперся… Когда демобилизовался — увез. Уже жену. Беременную.
— В Минск? — спросила Ольга и спохватилась: невзначай коснулась больного места.
Иру, похоже, упоминание Минска не задело. Спокойно ответила:
— Сначала в свою деревню, а после уж туда перебрались… — запнулась и добавила глухо: — На свое несчастье.
Только теперь Ольга заметила набежавшую на ее лицо тень. Но Ирина тотчас попыталась замять свою печаль шумным возгласом:
— Вот так и бывает, Оленька: не знаешь, где тебя поджидает радость, где — беда!
* * *
Зимними вечерами часто забегала к Ольге на минутку молодая колхозница Анна Зуева. Муж ее был на фронте с первых дней войны. В бесхитростных беседах с Ольгой она рассказала, как недружно жила со своим Толиком, как постоянно ревновала его к девчатам. Он мужик веселый, гармонист, без него не обходились ни одна свадьба, ни одни крестины. За двухлетнюю семейную жизнь Аня много наговорила ему недобрых слов, и теперь совесть не давала ей покоя.
— Ольга, милая, — плакалась Аня, — как вспомню — ни за что накидывалась на него, на родненького, так сердце и заноет. Вернись он домой сейчас, пускай израненный, уж так бы я любила да берегла его! Краше моего Толика на всем-то белом свете никого нет!
Аня читала Ольге все мужнины письма и ни одного своего не отправила ему, не посоветовавшись с Ольгой. А у той откуда только брались нежные да ласковые слова, которые подсказывала она Ане! Бывало, после Ольгиных размышлений — как бы она написала Толе — Аня заново переписывала свои письма и все приговаривала: