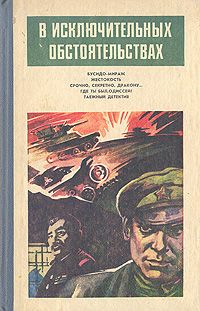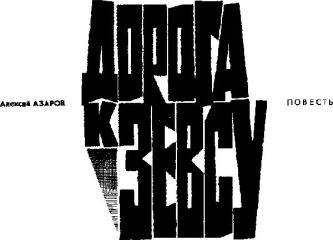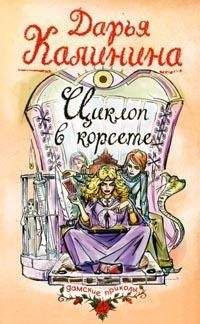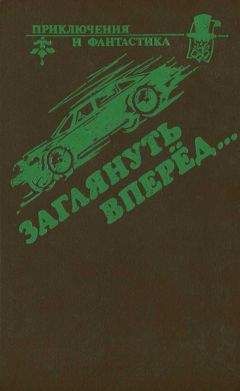Ознакомительная версия.
— Меня, — говорю я просто. — Только труд напрасен: я не из Лондона и, конечно же, не из Москвы… И вот что — убирайтесь вон!
— Хорошо, — говорит Эрлих и встает. — Я попробую…
— Что попробуете?
— Уйти. Возьмите сигареты, могут пригодиться…
Нервным коротким движением Эрлих бросает на одеяло коричневую мятую пачку «Реемтсма» и, расправив плечи, идет к двери. Стучит. Дверь не сразу открывается, и в освещенном проеме вырисовывается неправдоподобно огромная фигура солдата вермахта в полевой форме и с автоматом на груди.
— Что надо?
Вот это фокус! Я пялюсь во все глаза, не в силах постигнуть смысла происходящего.
— Я хотел бы выйти, — говорит Эрлих, и руки его бессильно свисают вдоль мундира. — Позовите фельдфебеля.
— Запрещено, — отрезает солдат и отталкивает штурмбаннфюрера в глубину комнаты. — Назад! И не стучать больше!
— Хорошо, — говорит Эрлих и поворачивается на носках. Плечи его опущены.
— Что это? — спрашиваю я, когда дверь закрывается. Эрлих возвращается к кровати и, присев, тянется к пачке. Вытряхивает сигарету и, не закурив, крошит ее в пальцах.
— Что происходит?
— Не знаю, — тускло говорит Эрлих и ссыпает табак на пол. — Я, как и вы, под арестом.
Для провокации слишком сложно: рассказ с намеком — это еще укладывается в стандарт; но сцена с переодеванием, мнимый арест — слишком смахивало бы на фарс. Что-то тут не то. Но что именно?
Мысленно я снимаю шляпу перед собой и раскланиваюсь, воздавая по заслугам чутью, еще час назад уловившему в атмосфере комнаты еле ощутимый привкус тревоги. Браво, Огюст!
— В чем вы провинились?
— Ни в чем, — говорит Эрлих, выкрашивая новую сигарету. — Я и сам ничего не понимаю. Вермахт появился в два сорок пополудни, и нам едва дали собраться. Приказ Штюльпнагеля.
Он вплотную наклоняется ко мне, обдав запахом свежего белья.
— Птижан… Я скажу вам то, чего нельзя говорить. Не знаю, правда ли это, но у империи новый рейхсканцлер.
— Что?
— Тише… Ради бога, тише… Вот прочтите. Майор из штаба Штюльпнагеля вручил нам всем приказ. Под расписку.
Бледные фиолетовые буквы пляшут у меня перед глазами. «Приказ… 1. Безответственная группа партийных руководителей, людей, которые…» Мимо! Дальше! Что там? Вот: «…группа… пыталась использовать настоящую ситуацию, чтобы нанести удар в спину нашей армии и захватить власть в своих интересах». Переворот? Но кем он совершен? Дальше, Огюст! «2… правительство… объявило чрезвычайное положение и доверило мне все полномочия главнокомандующего…» Кем подписано? Не спеши, Огюст, по порядку. «3… вся власть в Германии сосредоточивается в военных руках. Всякое сопротивление военной власти должно быть безжалостно подавлено. В этот смертельный час…» Подписано: «Германской армии генерал-фельдмаршал Витцлебен…»
— Переворот? — говорю я. — Ай-яй-яй! Что ж вы не застрелились, Эрлих? Смерть от пули, утверждают, приятнее, чем в петле! Или вы сомневаетесь, что Гиммлера повесят? Сдается мне, армия не очень любит рейхсфюрера СС и, конечно же, не замедлит вздернуть его, а рядом с ним — и верных его сподвижников.
«Фау» на лбу Эрлиха становится багровым.
— Не ликуйте, Птижан, — говорит он любезно. — Все вернется на круги своя. И раньше, чем вы думаете. Мы, люди СД, будем нужны любой власти.
— А я-то думал, что вас арестовали!
— Так оно и есть… и в то же время мой арест ничего не значит. Заметьте, мне удалось устроить так, чтобы попасть именно к вам, а не в соседнюю комнату или подвал. Не все потеряно. Понимаете…
Конец фразы я пропускаю мимо ушей. Вопросы куда более серьезные, нежели риторика штурмбаннфюрера, теснятся в голове. В Германии переворот. Военные у власти. Что это означает? Капитуляцию? Ни в коем случае. Скорее всего сепаратный мир на Западе, все силы — на Восток. Только так… А где обожаемый фюрер? Прихлопнули?
— Который час? — спрашиваю я механически, не в силах увязать все, столь внезапно свалившееся на Огюста Птижана и, признаться, ввергнувшее его в некоторую растерянность.
— Двадцать три с минутами.
— Сутки…
— Вы о чем?
— Сутки назад я был в подвале. А теперь штурмбаннфюрер Эрлих сидит здесь и сам ждет, не спровадят ли его в помещение с крюками под потолком. Там превосходные крюки, выдержат и быка.
Этой издевкой я прикрываю разочарование, охватившее меня при мысли, что некая идея — чертовски скользкая! — о которой я думал вчера и позавчера и трое суток назад и в которой заметное место отводилось Эрлиху, вдруг разом обесценилась. От того, что военные дорвались до власти, Огюсту Птижану не станет легче. СД, абвер ли — какая разница? Вся штука в том, что у меня нет сил начать с новым следователем долгий путь, пройденный с Эрлихом…
Эрлих снимает с руки часы и трясет их над ухом.
— Стоят, — говорит он с оттенком изумления. — Черт, побери, до чего я распустился: забыл завести! Сейчас не двадцать три, Птижан, а больше. Может быть, глубокая ночь. Вы любите ночи, Огюст?
— Утро мне милее.
— Не скажите, ночью тоже хорошо. Темно. Часы привидений и самых смелых фантазий. Мрак помогает вообразить себя всесильным и бессмертным. Недаром все великое и тайное рождается под покровом темноты.
— Прошлой ночью в подвале я этого не заметил.
— Пеняйте на себя, Одиссей! Кто заставляет вас молчать?… Мой бог! А знаете, Огюст, ваше упорство действительно импонирует мне. Если все станет на места, у нас найдется случай вернуться к этой теме и к притче. Идет?
— Поживем — увидим, — говорю я, прислушиваясь к вибрирующей струне. Она натягивается и натягивается, и физиономия Эрлиха качается, увеличивается в размерах.
«Не смей, Огюст!» — приказываю я себе и прикусываю губу. Сильнее. Еще сильнее. Только бы не обморок! Только не забытье, в бреду которого Огюст Птижан способен сказать много лишнего. Один к тысяче или один к миллиону, что солдат и бумажка с фиолетовыми буквами — фальшивка, атрибуты фарса, изобретенного Эрлихом, чтобы добиться контакта со мной. Но даже если один на миллиард, Огюст Птижан обязан вычислить величину этого шанса и принять его в расчет.
— Не молчите, Эрлих! — прошу я и подтягиваюсь повыше. — Поправьте, пожалуйста, подушку. Вот так… Нет ли у вас в запасе новых, историй? Расскажите мне о Микки; кто она такая, эта шарфюрер Больц?
Шум, невнятный, нарастающий, с вкрапленными в него голосами и клацаньем металла, возникает за дверью, что-то глухо валится; оханье, возня; железный хруст замка и Фогель на пороге.
— Штурмбаннфюрер!
Эрлих разгибается и роняет сигарету.
В полуотворенную дверь мне видно, как трое в черном волокут упирающегося солдата. Огромные сапоги, посверкивая сбитыми подковками, цепляются носами за выбоины в полу, скребут его; солдат глухо мычит и однообразно охает под ударами.
— Фогель!
Звучный стук сомкнувшихся каблуков. Пронзительное:
— Нашему фюреру… Адольфу Гитлеру — зиг хайль!
— Зиг хайль! — слабым эхом откликается Эрлих и вскидывает руку к плечу. — Зиг хайль! Зиг хайль!
Рот Фогеля перекошен. Штурмфюрер на грани прострации, и слова выбрасываются из него сами собой — отрывистые и наэлектризованные.
— Он жив! Он жив, штурмбаннфюрер!.. Заговор… Рейхсминистр Геббельс выступил по радио… Я первым вырвался — и за вами! Сразу же!.. Штюльпнагель — предатель!
Эрлих разводит плечи в геометрическую прямую; машинально отработанным жестом поправляет портупею.
— Спокойно, штурмфюрер. И ни слова больше! Поднимемся наверх, и вы расскажете все по порядку.
Подбородок Фогеля заостряется: он тянется изо всех сил, не замечая, впрочем, что непослушные ноги перекатывают тело с каблука на носок, пляшут джигу.
— Сигареты, — говорит Фогель. — Вы забыли сигареты. На одеяле…
— Пусть остаются. Ловите спички, Птижан!
Коробок сухо брякается на пол, опережая новую порцию фраз.
— Все-таки, Фогель, мы с ним коротали не один час. Это тот уникальный случай, когда солдат фюрера имеет право проявить снисходительность к врагу. Идемте, Фогель!
Ну и денек!.. Я, конечно, не в восторге от подвала с крюками, но там хоть все ясно. Ни малейшей неопределенности. А сегодняшние неожиданности, не поддающиеся быстрому истолкованию и анализу, кого угодно сведут с ума. Особенно если учесть, что арест Эрлиха обращал в прах идею Огюста Птижана… Хрупкую идею, надо сознаться; но что поделать, если другой нет и как ни прикидывай, похоже, не предвидится.
6. «ТУМАН НАД КАРДИФФОМ» — ИЮЛЬ, 1944
Да, другой идеи нет и, похоже, не предвидится. Я ломал голову над ней несколько суток и ломаю сейчас, когда мосты сожжены. Так уж я устроен: даже решив что-нибудь, не могу сразу преодолеть колебаний…
— Вы раскаиваетесь, Одиссей?
В голосе Эрлиха звучит предостережение «Не советую вилять!» — расшифровываю я и, озлившись, отвечаю резче, чем следует.
Ознакомительная версия.