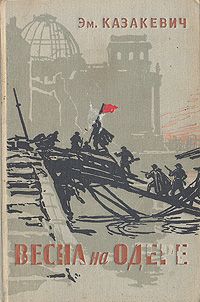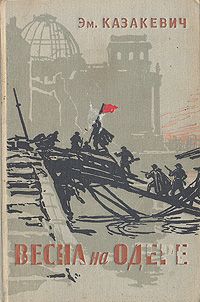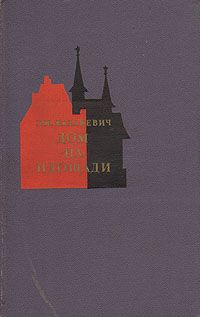Они вошли в дом, и Чохов посмотрел на карту. Фольварк был в двух километрах к северо-востоку.
— Как же быть? — сказал Чохов. — Один вы не пойдете, а дать вам людей — в роте-то всего сколько… Говорят, у немцев орудуют группы, вроде партизан.
Сливенко презрительно рассмеялся:
— Да что вы, товарищ капитан! Никогда не поверю, что у них партизаны. Не пойдет немец на такое дело. Немец — он аккуратист, знает, что плетью обуха не перешибешь. Да и где здесь партизанить? Леса чистенькие, прилизанные, дорожки пряменькие… Нет, вы за меня не бойтесь, я один пойду…
На Чохова подействовали эти, по-видимому, глубоко продуманные слова. Хотя и не без колебаний, он все-таки разрешил парторгу отлучиться.
Сливенко взял автомат, положил в карманы по гранате и сказал, смущенно улыбаясь:
— Спасибо, товарищ капитан. Вы им, — он махнул рукой на дверь соседней комнаты, где спали солдаты, — даже не говорите… Я приду назад через час, — и закончил по-украински: — А то невдобно: парторг, а такий старый дурень!
Он откозырял и вышел.
Чохов собрался было прилечь, как вдруг дверь широко распахнулась и на пороге показался капитан Мещерский. Он был весь в грязи и глине.
— Где у вас телефон? — спросил он. — Надо сообщить наверх важную новость. Противник уходит. Я подползал к самой его передовой. Уходит, я вам определенно говорю.
Позвонили в штаб батальона, оттуда передали известие в полк и дивизию.
Дивизия сонно зашевелилась.
Чохов разбудил своих людей. Они еле передвигали ногами от усталости и ежились в предутреннем холоде.
— Сейчас пойдете? — спросил Чохов у Мещерского.
— Да, меня ждут, — сказал Мещерский. — До свидания, товарищ капитан.
Чохов опять подивился неизменной вежливости разведчика. Выйдя следом за ним во двор, Чохов еще некоторое время постоял, прислушиваясь к удаляющимся шагам Мещерского. Потом он повернулся к своей роте. Рота стояла в полном сборе.
Солдаты вышли из ворот. Деревня уже была полна людей, повозок, машин. Повозки громыхали, машины гудели, звякали котелки.
Чем дальше шел Сливенко по обочине асфальтированной дороги, громко стуча подкованными каблуками, тем более вероятным казалось ему, что именно на этом фольварке и найдет он свою дочку, или дочку, как он называл ее по-украински, с ударением на последнем слоге.
Правда, в самой глубине его мозга, как на крошечном островке, сидел Сливенко-умник, издевавшийся над Сливенко-фантазером, которому все казалось таким возможным.
— Ну и чудак же ты, Сливенко, — говорил ему Сливенко-умник, язвительно ухмыляясь, — неужели ты это всерьез решил, что Галя именно тут, на этом фольварке? Прожил ты, старый шахтер, сорок лет с гаком, видал белый свет и вдруг поверил, что в этой вражьей стране, где столько тысяч фольварков и деревень, ты сразу найдешь свою дочку… Да иди ты к своим ребятам и ложись спать…
Но Сливенко упрямо шел вперед. Он вспоминал свою Галю. Когда пришел немец, ей исполнилось шестнадцать лет, она только что кончила седьмой класс. Это была высокая, красивая, смуглолицая девушка. Но для отца всего дороже был ее ум: тонкий, чуть насмешливый, прячущийся за приличествующей ее возрасту скромной молчаливостью на людях. Сливенко испытывал великое наслаждение, беседуя с дочкой и открывая в ней все новые качества: понимание людей, сильную волю и недюжинные способности. Правда, он старался не потакать своим отцовским чувствам и был с ней довольно строг.
Сливенко с раскаянием вспоминал свои несправедливые, как ему теперь казалось, придирки. И глупо же было так горячиться из-за ее детского романа с Володькой Охримчуком, чудесным, веселым парнем, впоследствии погибшим на войне.
Когда война подошла к Донбассу, Сливенко вступил в коммунистический батальон, брошенный против немцев под город Сталино. В этом бою Сливенко был ранен, и ночью его отвезли на тряском грузовике в военный госпиталь.
Конечно, выздоровев, он мог сказать, что он шахтер-забойщик. Вряд ли его взяли бы в армию в этом случае: шахтеры нужны были в тылу, в Караганде хотя бы. Но Сливенко не то, что скрыл свою профессию, нет, он просто не сообщил о ней. Он думал при этом, по своей военной неискушенности, что его пошлют обязательно туда, куда он стремился всем сердцем, — к Ворошиловграду, что он будет выбивать немцев из родного Донбасса. Но его постигло разочарование: он был назначен в зенитную часть в какую-то заштатную станицу, где находились склады горючего. Сливенко с тоской глядел в безграничное ночное осеннее небо над степью, а душа рвалась на запад, к родной шахте, к родному маленькому домику. Впрочем, он потом успокоился, сознавая, что родной дом есть у каждого и все вместе дерутся за свою родину в целом и за каждый дом в отдельности.
Пришел день, когда освободили Донбасс, и Сливенке после второго ранения (в ту пору он уже был пехотинцем) удалось побывать на родной шахте. Он переступил порог своего дома и долго стоял, обнявшись со своей «старухой», посреди комнаты, не понимая ее горьких слез и все-таки догадываясь о причине их, не смея спросить, в чем дело, и в то же время зная, что это связано с Галей, которой в доме нет, отчего дом кажется пустым и никому не нужным.
Наконец, когда прибежали соседки и он узнал о Галиной судьбе, он стал утешать «старуху» и, конечно, обещая ей, улыбаясь уж слишком неуверенной улыбкой, что как только он придет в Германию, он найдет дочку. И хотя «старуха» этому не верила, но ничего не отвечала, а только плакала потихоньку.
И вот он в Германии. И живой! И здесь, в километре от него, его дочка!
Он ускорил шаги.
Потом появилась тягостная мысль, которую он всегда отгонял от себя: «Дочь — красавица. Какой мужчина не посмотрит на нее? Кто умильно не улыбнется ей? А если такая в рабстве? А немцы — господа?…»
Показался фольварк. Это был большой дом, обнесенный глухой каменной стеной, похожей на крепостную. Маленькие сводчатые воротца в этой стене тоже походили на крепостные. Ворота были из мощных досок с железными перекладинами, калитка наглухо заперта.
Сливенко пнул кованым сапогом ворота и крикнул:
— Отпирай!
Отчаянно и злобно залаяла собака.
Раздались торопливые шаги. Они замерли у калитки, потом стали удаляться. Тогда Сливенко ударил прикладом автомата в калитку:
— Отчиняй двери!.. Русский солдат пришел!
Шаги стали еще торопливей. Там был уже не один человек, а несколько. Наконец немецкий голос у калитки робко спросил:
— Was wunschen Sie?[4]
— Виншензи, виншензи, отпирай, говорю!
Калитка отворилась.
Перед Сливенко стоял старый хилый немец с фонарем в руке. Немного поодаль жались к дверям конюшни две тени. Они вдруг подняли руки вверх и медленно пошли к Сливенко. Он увидел, что это немецкие солдаты.
— Капут, — сказали они.
— Ясно, капут, — сказал Сливенко.
На всякий случай, он — военной хитрости ради — громко бросил в молчаливую ночь за воротами:
— Подождите, ребята!
У него там, дескать, еще люди.
Но сказал он это так, скорее для очистки солдатской совести, нежели из желания убедить немцев.
— Только цвай? — спросил он, тыча поочередно в каждого солдата пальцем.
— Цвай, цвай, нур цвай, — забормотал старик.
— Кругом! — скомандовал Сливенко, беря автомат наизготовку.
Немцы поняли, повернулись и пошли по обширному двору, заваленному навозом и соломой и заставленному большими высокобортными телегами.
Они вошли в господский дом. В вестибюле Сливенко велел им остановиться известным всем русским солдатам окриком «хальт».
— Оружие где? — спросил он, хлопая рукой по прикладу автомата. — Вот это где, оружие?
— Ниц нема, — ответил один из солдат по-польски.
— Никс вафен, — ответил другой, — веггешмисен, — пояснил он рукой, словно бросая что-то.
— Бросили… — перевел Сливенко.
Пожалуй, лучшим выходом из положения было бы уложить этих двух длинных рыжих немцев хорошей автоматной очередью. Но так Сливенко не мог бы поступить — не из страха перед начальством, запрещающим такого рода расправу, — об этом никто бы все равно никогда не узнал. Нет, Сливенко просто не мог так поступить, это было не в его правилах.
Сливенко подошел к одной из дверей и толкнул ее. Он подозвал старика и при свете фонаря увидел большую печь, кафельный пол, медные кастрюли. Два окна были закрыты ставнями. Он показал солдатам на дверь кухни. Они с готовностью вошли туда. Затворив за ними дверь, Сливенко сказал, указывая на замочную скважину:
— Запри.
Старик засуетился, выбежал, его шаги раздавались по лестнице в каких-то дальних комнатах пустынного дома, наконец он пришел со связкой ключей и запер дверь кухни.
Тогда Сливенко спросил:
— Где русские?