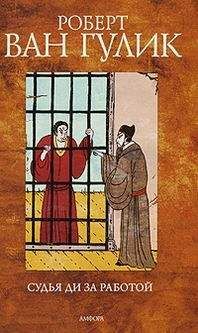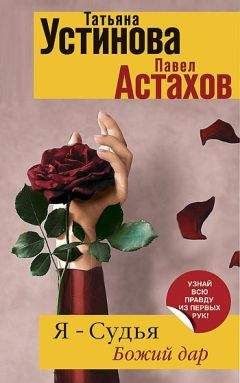– Когда же это было? И где?
– В Пранянах, в середине сентября сорок четвертого.
– Почему вы не приняли капитуляцию Лера?
– Я бы не хотел об этом говорить.
– Что же, значит, вы оберегали гитлеровского генерала от поражения? – вмешался судья.
– За три или четыре дня до того, как представитель Лера, Штекер, прибыл ко мне в Праняны, король назначил Тито верховным главнокомандующим, сменив на этом посту меня, – он чуть было не выговорил то, что думал: «предав меня», но сдержался. – Таким образом, у меня не было полномочий ни от короля, ни от правительства для того, чтобы принять капитуляцию Лера, правда, я попытался повернуть дело иначе, но это мне не удалось.
– Что вы попытались сделать?
– Я посоветовал немцам сдаться американцам. Со мной в штабе был американский полковник Макдауэлл, когда Лер согласился на мое предложение, американец срочно затребовал полномочия от своего командования. Однако проклятый Черчилль выкопал могилу и нашему народу, и государству, и армии, и мне.
– Что же, по-вашему получается, что это Черчилль приказал Леру продолжать бои? – саркастически вставил прокурор.
– Вы же прекрасно знаете, что тогда было и почему это так было, – возмутился Дража. – Черчилль нажал на Рузвельта и убедил американцев, что Лер должен сложить оружие только перед Красной Армией, потому что Сербия относится к сфере интересов Советского Союза. Если бы не стечение таких катастрофических обстоятельств, война на Балканах закончилась бы еще в сентябре сорок четвертого, а сталинские орды никогда не ступили бы на сербскую землю. Ни они, ни ваши пролетарские бригады, сталинские прислужники!
– Это как же, Дража, значит, тогда ты бы был на моем месте, а я на твоем? – покраснел от бешенства Крцун. – Отвечай, прихвостень американский!
– Как во время войны я не совершал того, что вы творили, так и после победы я не вел бы себя так, как вы. Я уже говорил, ваша секта несет зло, но вы часть нашего народа. Среди вас, конечно же, есть и хорошие люди, есть наивные и одураченные, но ваши мысли, ваши идеи, сама основа вашей веры – это огромное, чудовищное зло!
– Это наше чудовищное зло проникло и в твою семью! – замахнулся Крцун, будто хотел его ударить. – Я все помню, ничего не забываю. Ты дорого заплатишь за все, что здесь наговорил, кровью заплатишь! Мы – зло, мы – чудовища! А твой сын, а твоя дочка…
– Я хорошо знаю, где и с кем мои дети, – не дал он ему закончить мысль. – И не только мой дом, не только моя семья оказались расколотыми, вами расколотыми, – его глаза заискрились, но не ненавистью, а страхом и горечью. – Проклятый раскол! – вздохнул он глубоко. – Кто католик, кто – в ислам, кто – безбожник. И за каждый такой раскол заплачено кровью, как будто у нас крови на две Адриатики. – Он вдруг помрачнел.
– Так ведь не мы же, хрен тебя раздери, отуречивали или окатоличивали этих твоих сербов, – вступил Пенезич. – В Бога мы не верим, потому что его нет. Да даже если он есть, то все равно он враг народа и прислужник реакции.
– Почему вы так навязчиво отрицаете, что и сами серб? Вы что, стыдитесь собственного народа?
– Я коммунист, который стыдится велико-сербской сволочи!
– Этот несчастный народ имеет все основания стыдиться вас, молодой человек, но он от вас не хочет и не может отречься. Ради ваших детей, ради будущего. Мы и так слишком много ветвей отрубили от нашей народной кроны… Здесь есть вина и нашей церкви, – добавил он неожиданно.
– С каких это пор вдруг вы стали противником антинародной религии? – не понял прокурор слова заключенного.
– Меня ужасает примитивность и односторонность ваших мыслей. Я упрекаю нашу церковь в том, что она поставила знак равенства между народом и верой, потому что веру можно поменять, а национальность нельзя. Она ограничена общим происхождением, общим языком, общим счастьем, которого было так мало, и общим несчастьем, которого было слишком много. Национальность должна быть выше всех церквей… Да, да. Один и тот же язык и одни и те же корни страдали от резни, которую устраивали нам наши мусульмане, и от того, что мы иногда, как я уже говорил, переходили рамки необходимой самообороны.
– Мусульмане высоко ценят ваши братские чувства, – издевательски произнес судья. – Они день и ночь поминают ваше имя.
– Придет такой день, если, конечно, ваша власть долго просуществует, когда они станут проклинать вас, а не меня.
– Коммунизм и братство и единство будут жить вечно, – сказал прокурор.
– Коммунизм – это незарастающая рана, которая сама себя разъедает. И советую вам запомнить следующее. Слишком много ненависти и крови было пролито в этой войне, чтобы здравомыслящий человек мог рассуждать о возможности так быстро добиться не только народного единства, но еще и братства. Моей программой было государственное единство как мост и путь к единству народному. Но этот мост нам следовало строить мудро и терпеливо. Да что вам об этом говорить! – махнул он рукой. – Вы не понимаете ничего, ваш разум вмещает не более нескольких догм.
– А ты, прислужник буржуазии, ты хотел, чтобы в Белград вошли Эйзенхауэр и Монтгомери! – клокотал Крцун.
– Наши братские народы в этой войне должны были выбирать между днем и ночью, между советским солнцем и западным мраком, – добавил прокурор. – Благодаря нашей славной Коммунистической партии и товарищу Тито, наши братские народы выбрали солнечный свет, а вы, горстка великосербских изменников, – прогнивший Запад и силы реакции! – он вытащил из кармана гимнастерки расческу и несколько раз провел ею по волосам.
– На распутье между коммунистической революцией и западной демократией я избрал демократию, потому что за нее был мой народ, моя армия, король и правительство, к этому меня обязывали и мое офицерское звание и присяга. С самого начала мне было ясно…
– Тебе никогда и ничего не было ясно, – оскалился Крцун и гадко рассмеялся. – Насрать я хотел и на твоего короля, и на Америку, и на твою офицерскую присягу!
– С самого начала мне было ясно, – повторил Дража устало и безвольно, – что мой противник – это коммунистическая секта, способная на любое преступление и обман. Но я был уверен, что не имею права в борьбе с вами использовать ваши же методы. Я и сейчас уверен, что в этом отношении не допустил ошибки и что ваша дикая сила не будет править вечно! – веки его отяжелели, а глаза буквально сами собой закрывались.
– Дай только мне арестовать твоих Трумэна и де Голля, и они пойдут под мангал! Чего зеваешь, слушай, что говорю.
– Руганью и хамством вы только демонстрируете собственный страх и отчаяние. Все, что вы можете сделать мне, это убить, а я именно этого и хочу, – проговорил он и закрыл глаза.
И в тот же момент он вздрогнул все телом, настолько ясно перед его глазами возник Миша Цемович, который надевал ему на руку часы со словами: «Мой дядя послал меня к тебе с этим подарком!»
– А что с Павлом, Миша? – очнулся он и уперся взглядом в судью.
– С каким Павлом?
– Видите. Джуришич послал мне со своим племянником часы, – тут он понял, что бредит наяву, и его облил пот.
– Когда вы захватили партизан в себе Планиница? – придвинулся к нему прокурор.
– Партизан? Я ничего не могу вспомнить.
– Вы – военный преступник, – выкрикнул судья. – Вы будете приговорены к смерти и расстреляны!
– Мне безразлично, – и он потонул во сне.
– Блестяще! – воскликнул Крцун. – Пошли.
Все мы были свидетелями борьбы Михайловича и его жертв. Он одновременно боролся на два фронта: против немцев и против коммунистов, и он всегда берег нас, американцев, часть своей армии. Они боролись геройски, часто голыми руками. И если мы остались живы, то это заслуга Михайловича. Моя супруга и я постоянно молим Бога о спасении этого человека. Мы считаем его членом нашей семьи.
(Пилот Donald Parkerson,«Chicago Herald»,29 марта 1946 г.)* * *
Единственный грех Михайловича состоит в том, что он встал на пути Советской России в стремлении защитить свободу своего Отечества, находившегося в опасности. Бросив его на произвол судьбы, американское правительство совершило недостойный акт предательства. Если оно теперь позволит убить его, позор останется навеки.
(«The Journal American»,30 марта 1946 г)* * *
Я был хорошо знаком с генералом Михайловичем и его соратниками. Они были почти голы и босы, но все были готовы умереть за свободу и Отечество. В этой войне не было людей подобных им, лучших, чем они. Если кто-либо когда-нибудь и был предан самым благородным традициям, то это генерал Михайлович и его герои. Было бы страшной несправедливостью по отношению ко всему человечеству, а в еще большей степени позором для Америки, если бы мы позволили коммунистам убить этого праведника.