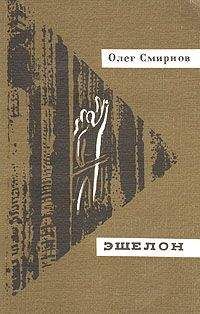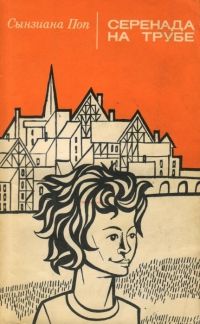А утречком солнце опять всплывало пад зубчатой грядой, и Петя радостно поражался: тонет в море — всплывает в горах!
Впрочем, и солнце, и горы, и домики, и зелень — все было прекрасно, лишь дополняя чудо. Чудо же было одно — море.
Мать и сын ходили к морю трижды на дню — после завтрака, обеда и ужина. Но ночью, во сне, Петя не расставался с чудом ни на минуту: он лежал на топчане — и глядел на море, сидел на нарапете — и глядел на море, шел вдоль кромки — и глядел на море, плескался у берега — и глядел на море. Насмотреться на него Петя не мог и ночью, во сне, повторял то, что делал днем, наяву.
Когда море было доброе, спокойное, оно бережно несло на себе суда, людей и дельфинов; днем было теплое, млелое, вечерами курилось в охолодавшем воздухе, неся на себе блескучую лунную дорожку.
Полуденное солнце пронзало толщу воды, и она переливалась, меняла цвет — зеленый, голубой, синий, пенно-радужный, — а то вдруг все краски смешивались в одну, которой и названия нет.
Если было безоблачье, вода становилась еще синей от отраженного в ней неба, если хмарь, море становилось еще свинцовей от отраженных туч. Под дождинками оно словно кипело, при грозе молнии впивались в его поверхность, гасли без следа. В шторм ревело, гнало высоченные волны, ветер срывал барашки, и тысячетонный прибой сотрясал набережную. Петя любил море и в шторм, норовя подойти поближе, чтобы ощутить на губах гневные соленые брызги. Хотя мама не пускала его и страх не пускал.
Море было изменчивое, каждый раз неожиданное. Поэтому и мальчик каждый раз, увидав его, задыхался от счастливого волнения, как будто знакомство происходило впервой. И Лидии Васильевне надоело это видеть. Сначала она щадила сына, посмеивалась про себя, но впоследствии, окончательно закиснув в этом забытом боженькой райском уголке, стала выговаривать не без раздражения:
— Петенька, нельзя же быть столь впечатлительным и, если хочешь, сентиментальным… Ты мужчина, закаляй характер!
Мальчик не очень понимал, чего хочет мать, и уж совсем не обращал внимания на ее тон. И ей делалось неловко, она привлекала сына, тормошила, целовала. Стараясь не обидеть мать, он высвобождался, оглядывался: не застукал ли кто этих нежностей, он же пацан, не девчонка. Хотя маму он любит всегда и всякую — добрую и сердитую, ласковую и строгую, молчаливую и разговорчивую. Только чтоб без нежностей, чтоб не слюнявиться.
Лидия Васильевна приехала в Гагру с непреходящим чувством одиночества, знакомым ей не один год. Но рядом все-таки был сын, а вот теперь он отдалился, носится со своим морем, и ей стало вовсе одиноко. До смерти наскучила эта курортная глухомань, куда она прикатила, наслушавшись рассказов сослуживицы о благодатном абхазском климате и рыночной дешевизне. Хотелось доставить сыну радость — и доставила. На что ж и на кого нынче обижаться? Но обида крепла, будто отпочковавшись от той громадной обиды, что появилась еще до рождения Пети.
Данные о рыночной и прочей дешевизне были сильно преувеличены, а климат действительно был благодатный. Но уже раздражали лазурное море, теплое солнце, яркая зелень, местные жители — шумливые, назойливо-гостеприимные. И вовсе были непереносимы курортники. Не те, которых поменьше, — работяги в обтрепанных брюках, партийки в красных косынках, — а те, которых было побольше, — упитанные вчерашние буржуечки и нэлманочки с нынешними ответственными мужьями не меньшей упитанности, восточные люди в соломенных шляпах и чесучовых костюмах, из Тифлиса, Эривапи, Баку, их дамы сверкали кольцами и браслетами. Вся эта гладкая, самодовольная публика вертелась вокруг пляжей, базаров и ресторанов. Жарило солнце — восточные люди за ресторанными столиками вытирали пот со лиа не носовыми платками, а бумажными салфетками, шли парные дожди — на тротуары выползали улитки, под подошвами курортБНКОВ хрустели, как пустые спичечные коробки. Противно. Бархатный сезон, будь он неладен…
Лидия Васильевна вспомнила московский деревянный домкупчину и как она, восемнадцатилетняя, стояла на крыльце, а сверху шмякался голубиный помет, а по железной кровле стучали коготками голуби, словно дождь стучал. И ей захотелось не этого южного, парного дождика, но московского — холодного, секущего, по-настоящему октябрьского. Домой, в Москву!
Одно событие ускорило отъезд.
Петя с мамой был на пляже. Мама лежала на топчане лицом вверх, на носу приклеена бумажка, чтоб не обгорел, глаза прикрыты. Петя сидел рядом на гальке, смотрел в море. Оно было дремотное, в прозрачной дымке, шлепало ленивым прибоем. По горизонту плыл, будто стоял, трехтрубный пароход, поближе к берегу белел косой парус яхты, белели шлюпки с рыбаками. Выпрыгивая из воды, играл черный лоснящийся дельфин. На глубине, у флажков, плавали взросые, на мелководье плескались дети.
— Мама, я окунусь, — сказал Петя.
Не открывая глаз, Лидия Васильевна ответила:
— Далеко не заходи.
— Хорошо, — сказал Петя, вставая, и тут увидел: из моря выходит девочка в оранжевом купальнике, в резиновой шапочко, вода стекает с девочки. Что-то поразило Петю, и он пошел к ней.
И пока дошел, задохнулся от внезапного счастья. Будь постарше, он бы подумал: одно чудо — море — родило другое чудо — девочку. Он бы понял, что девочка была большим чудом, но перед морем он благоговел, а к девочке можно было подойти и взять за руку. И он взял ее за влажную, прохладную и тонкую руку. — Давай дружить. Меня зовут Петя.
Она не удивилась, сняла резиновую шапочку, тряхнула русымп завитками.
— Давай. Я Вика.
— Мне почти семь, — сказал Петя. — Скоро восьмой пойдет.
— А мне уже семь. Я старше тебя!
— Старте, — сказал Петя. — Ты здорово плаваешь. Научишь?
— Да. Если будешь слушаться.
— Буду, — сказал Петя.
Ему казалось: разговаривая с этой необыкновенной, поразившей его девочкой, он и сам становился каким-то необыкновенным, новым, который все может, даже научиться плавать. В чем ее необыкновенность, он не знал. Но это был факт, что она не походила ни на кого из девчонок, — это-то он наверняка знал.
Он проводил Вику до топчана, где загорала со мама, полная красивая женщина в шелковом купальнике, постоял, переминаясь. Мама весело спросила:
— Вика, это твой кавалер?
Девочка, вытиравшаяся махровым полотенцем, ответила:
— Это Петя. Мы будем дружить.
— Дружите, дружите, — сказала Викина мать и повернулась на другой бок.
Петя с Впкой уселись на галечник и стали играть в чет-нечет, готом бросали плоские камешки, "пекли блины" — у кого галька больше подскочит на воде. Побеждала Вика, и Петя этому не удивлялся. Она была иной, чем все девочки. А потом Вика учила его плавать вдоль берега. И саженками, и по-лягушачьи, и под водой.
Петя суматошничал, хлебал горько-соленой водицы, но у него коечто получалось, хоть малость держался на воде. А раньше умел плавать лишь по-топориному. Дайте срок — будет плавать и саженками, и по-лягушачьи: он ведь сделался чуть-чуть необыкновенным. От Вики передалось.
Они купались, грелись на солнышке, играли, снова лезли в море, и у Пети не проходило чувство необыкновенности всего этого — Вики, моря и его самого, Глушкова Пети. Он не отходил от девочки нп на шаг, и Лидия Васильевна еле дозвалась его на обед. А Впкина мама смеялась:
— Дочуня, до чего ж у тебя преданный кавалер!
— Он не кавалер, а Петя.
— Это все равно! — Викина мама смеялась егде заразительней.
В столовой Лидия Васильевна выговаривала сыну:
— Просто непрплпчно — так прилипнуть к чужой девочке.
— Она не чужая. Мы с ней дружим.
— Ладно, ладно! — Лидия Васильевна отмахнулась от назойливой, свирепой осы. — Компот будешь пить?
— Ну! — сказал Петя и сплюнул.
Грозно жужжали осы. За раскрытым окошком сигналила на дороге грузовая автомашина, скрипели повозкл, запряженные буйволами. У изгороди коровы бренчали колокольнями, хрюкали черно-белые, пятнистые свиньи с треугольными деревянными колодками на шеях — чтоб не пролезли в огород. На террасе соседнего дома, где сушились на гвоздях связки красного перца, кукурузных початков, табака, мужчина в клетчатой руСашке кричал женщине в блузке, с отвисшей грудью:
— Хэ, кого учишь? Меня учишь!
Жужжите, сигнальте, скрипите, хрюкайте, разговаривай го, пойте — все звуки нужны Пете Глушкову. И чем их больше, тем лучше. Сам бы закричал что-нибудь, или пропел, пли свистнул, да мамы опасается. Тем более она жалуется: "В этом поселке адский шум, буквально голова раскалывается…"
И на их квартире шума хватало. Лидию Васильевну особенно донимали грохот машин, лай и мяуканье — пушистые собака и кот были голосисты. Но Пете они нравились; во-первых, жили дружно, спали и то на пару, во-вторых, ластятся к людям, любят поиграть, поноситься. Пегий, криволапый Шарик был хитер, изворотлив и добродушен. Мурзик — полосатый лежебока с насмешливым прищуром крапчатых глаз, в темноте они горели дьявольски.