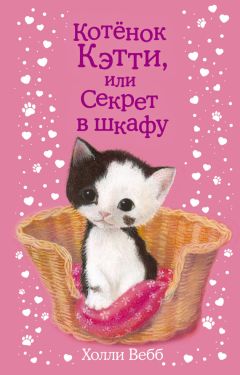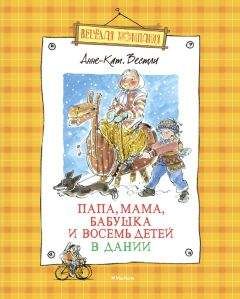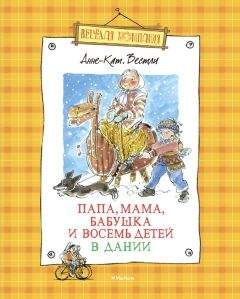сил…
Тот же врач рассказал батюшке, что его храм освободили и что командование уже пообещало помощь в его восстановлении. Отец Владимир оказался единственным выжившим из трёх клириков и после выписки из госпиталя стал настоятелем своей церкви, на которую военно-инженерные части краном водрузили сброшенные взрывами главки.
И вот он здесь, поют Херувимскую, а к нему подходит тот, кто когда-то держал его в подвале. Он не пытал, пытали другие, пришлые. Но он был среди тех, кто арестовал отца Владимира. Он держал батюшку в подвале. Он угрожал…
И его надо простить. Насколько велико твоё сердце?
Мужчина всю службу стоит склонившись, не поднимая глаз. У аналоя он становится на колени…
«Повергну врагов твоих у ног твоих».
— Вадим, — говорит его тюремщик хриплым, изменившимся голосом. А он вспоминает, как тот говорил ему, что готов перейти в Российскую армию, но боится мести — от «своих». — Батюшка, я всё решил. Я прятался в городе, когда ваши его взяли. Но нельзя прятаться вечно. Вы пришли навсегда. Я решил сдаться. Но сначала — хочу покаяться.
— В чём? — спрашивает отец Владимир.
Исповедник на мгновение замирает, потом говорит:
— А разве вы не знаете?
— Важно, чтобы вы это знали, — отвечает священник.
— Я потерял человеческий облик, — отвечает Вадим. — Поверил в то, что я — представитель «высшей расы». Я… отче, мне стыдно.
— Это хорошо, — отвечает отец Владимир, видя, что мужчина плачет. — Стыд и боль очищают душу. Говори мне, что ты сделал, а потом повтори это тем, к кому придёшь сдаваться.
— Я боюсь, — признаётся мужчина в конце исповеди. — Я сотворил такое… я боюсь, что Бог никогда меня не простит.
— Пусть этот страх направит твои руки, — отвечает отец Владимир. — Пусть он направляет тебя в дальнейшей жизни. Ты жив, а значит — можешь всё искупить.
Пройдёт время — и Вадим вернётся в этот храм вместе с командой заключённых, чтобы участвовать в ремонте. Он окажется мастером на все руки — справится и с сантехникой, и с электрикой. Потом пропадёт, но через несколько лет, когда на улица этого русского городка уже ничто не будет напоминать ни о войне, ни о какой-то Украине, вернётся и попросится в служки. Со временем дорастёт до церковного старосты.
Но это уже совсем другая история…
Глава сельсовета деревни с нежным именем Кринички, которого все по-простому звали дядей Мишей, зашёл к Серафиме Ильиничне рано поутру, ещё до рассвета. Серафима только-только подоила корову Ладу и как раз выходила из сарая с ведром парного молока, накрытым чистым подойником. Молока в ведре, правда, было литра три, не больше — на сене Лада доилась плохо, но Серафиме Ильиничне и того хватало с лихвой — жила она одна. Что не выпивалось, шло на творог, простоквашу-кисляк или сметану; их Серафима отдавала дочке бригадира Машеньке, та возила их в райцентр со своим товаром и продавала на привокзальном рынке, покупая «тёте Симе» продукты, каких в деревне не было, — конфеты, печенье, чай…
— Здравствуй, Симочка, — поздоровался дядя Миша.
Ему было под восемьдесят, но бывший лучший комбайнёр района сдаваться старости, кажется, не собирался. В четырнадцатом хотел даже в ополчение пойти. Усталый военком посмотрел на «новобранца» хмурым взглядом и сказал:
— Ну куда вам на фронт? Или думаете, что в тылу мужские руки не нужны? Если загребём всех подчистую, кто на земле работать будет, бабы?
Дядя Миша по этому поводу переживал сильно и почти год ходил хмурым, как туча. Потом, правда, отошёл — бандеровцев остановили, организовали им несколько знатных котлов и отбросили назад. В Кринички тем временем вернулось несколько односельчан, ушедших в ополчение и демобилизованных по ранениям. В итоге председатель сельсовета и его «слабосильная команда» скрепя сердце занялись мирным трудом. Восстановили ферму, разрушенную обстрелом бандеровцев, поставили на ход несколько стареньких тракторов и комбайнов, засеяли поля, собрали урожай…
А рядом шла война, и, хотя до Криничек боевые действия так и не докатились, война чувствовалась во всём, её мрачная тень накрывала посёлок, как мгла далёкий Иерусалим…
— Здравствуй, Михал Григорич, — ответила Серафима. — По делу пожаловал или так, мимо шёл?
— По делу, — кивнул дядя Миша.
— Так заходи, чего за калиткой стоять? — сказала Серафима, направляясь к дому. — Погодь, я сейчас ведро занесу, а потом посидим, чайку попьём. Мне Маша из райцентра привезла накануне какой-то чай «Седой граф». Необычный, но вкусный. И печенье «Любятово» — раньше такого не было.
— Да я на минуточку, — извиняющимся тоном сказал дядя Миша, заходя в калитку. Пёс Дружок вылез, гремя цепью, из конуры у курятника, повёл носом, лениво гавкнул, исполняя свой собачий долг — дядю Мишу он знал. — На пару слов, некогда мне чаёвничать, но за приглашение спасибо.
— Что ж у тебя за срочное дело? — удивилась Серафима. Жизнь в далёких от фронта Криничках, несмотря на войну, текла размеренно, и чрезвычайных происшествий в них почти не бывало.
— Тут такое дело, Сима, — сказал дядя Миша, понизив голос. — К нам в Кринички отводят роту морпехов с передка. Будут они здесь пару дней, пока им подкрепления не пришлют, потом опять на фронт. Решили их на постой по хатам поставить, не в чистом поле ж ребятам ночевать…
— Да уж точно, — согласилась Серафима. — Думаю, поле им и на передке осточертело. Ты мои условия знаешь — у меня три кровати, сама я и на печке перебедую.
— Сима, — серьёзно сказал дядя Миша, — не могу не сказать — знаешь же, что у нацистов теперь есть эти… как их, бесов? — «гаймарсы». А наши черные бушлаты у них в печёнках сидят не хуже «оркестра». Они их давеча с помпой «хоронили» — по ошибке раздолбали свою же колонну, засняли на видео и сказали, что это морпехи. Всё вскрылось, конечно, но теперь нацисты на наших ещё больший зуб затаили. Могут своим… как его, всё забываю… геморроем этим приложить. Из пушек по воробьям, конечно, но наши воробушки их так заклевали, могут и решиться.
Серафима поставила на крыльцо ведро с молоком, выпрямилась и упёрла руки в боки:
— Ты что ж, дядь Миша, думаешь, я твоих «хаймарсов» испугаюсь?
— Они не мои, — смутился дядя Миша, — они американские.
— Сказала, что троих бойцов приму — и баста, — отрезала Сима, потом смягчилась: — Себе-то сколько берёшь?
— Восьмерых, — потупился дядя Миша. — Знаешь же, дом у меня большой, два этажа. Места хватит…
* * *
После ухода главы сельсовета Серафима развила бурную деятельность: принесла дров, натаскала воды, из погреба нанесла овощей, сала, молока с творогом; зарезала курицу