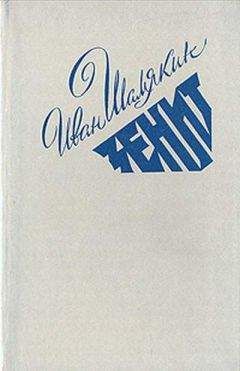«Виллис» со скоростью пешехода делал как бы почетный круг по площади — точно принимал парад; Селезнев без слов понимал своего командира. Но дорогу преградила очередная колонна молодежи, из узкого переулка вылившаяся на площадь. «Виллис» остановился.
— Скачите, зайцы. Только охотникам не попадайтесь: комендантский патруль обходите. А если что — вы со станции в штаб чешите. В монастырь. Адрес помните?
Сначала на нас не обращали особого внимания — город наводнен военными. Но стоило только Ванде спросить по-польски, какой праздник сегодня, нас тут же окружили:
— Товарищ советский офицер — полька?
— Полька.
— О-о! Панове! Советский офицер — полька!
— То есть полька!
— Пани — варшавянка?
— Нет.
— У пани варшавское произношение.
— Да нет! Мазурка!
— Краковянка!
Спорили. Радовались. Смеялись. Молодых как бы возвысило то, что их ровесница, полька — офицер Красной Армии. Девушки обнимали Ванду. Она смеялась, переводила мне их слова:
— Действительно, праздник святого покровителя Познани… А там во дворе ратуши — митинг молодежи. Пойдем?
Волна молодых подхватила нас и втиснула в просторный двор, при этом, заметил я, небольшая группа проворных юношей явно использовала нас с Вандой, чтобы протолкаться вперед. Вся площадь двора была забита молодыми людьми. В открытых окнах близлежащих зданий, примыкавших к ратуше, светились лица людей постарше. Протиснуться вперед было нелегко. Прыткие юноши пробивали проход Вандой и мной.
— Пропустите советских товарищей! — Дорогу советским офицерам!
И мы очутились недалеко от президиума.
На невысоком импровизированном помосте за длинным столом сидело человек двадцать, в центре — высокий лысый человек и майор нашей армии.
Выступал поручик Войска Польского. Его горячо приветствовали, когда он сошел с трибуны и занял свое место в президиуме.
— Hex жые Войска Польска! Hex жые! — скандировали тысячи голосов.
Ораторы выступали коротко, но пламенно. Скоро мы с Вандой почувствовали, что аудитория разделена на две части: на большую — левую и меньшую — правую. Мы очутились среди «правых». Когда выступал парень в бедной рабочей одежде, ему горячо аплодировали его товарищи, а рядом с нами начали свистеть.
Ванда прошептала мне:
— Держи кобуру.
До меня не сразу дошло даже, зачем ее держать, потом сообразил: чтобы в тесноте не вытянули пистолет.
Выступал оратор на вид не очень молодой, с усиками, в студенческой форме. Его приветствовала правая половина, аплодировали чуть ли не после каждой фразы. Рабочие свистели.
В бытовом разговоре какую-то часть слов я понимал.
И смысл предыдущих выступлений уловил, во всяком случае, их политическую направленность. Из выступления усатого не мог понять ничего, он говорил как-то уж очень заковыристо, будто и не по-польски совсем, да и шумели вокруг. Председатель собрания затряс колокольчиком.
— О чем он говорит? — спросил я у Ванды.
— Рассказывает программу лондонского правительства.
— Вот свинья! Польша имеет рабоче-крестьянское правительство — Комитет национального…
— Тише ты. Видишь, как сжимают нас. Мы не на ту сторону попали. На нас удивленно смотрит майор. Убегаем. О пистолете не забывай.
Назад нам прохода не освобождали, и мы с трудом пробивались к воротам.
На площади было свободно, просторно. Колонны молодежи втиснулись во двор. И в костел не шли так густо, пожалуй, больше из костела. Митинг оставляли по одному, редко — по два-три человека. Мы с Вандой заключили: убегают разочарованные нейтралы, обыватели, желающие остаться вне политики.
— Будет здесь у них драчка.
— Не будет. Рабочий класс…
— Ты так веришь в рабочий класс? — удивила меня Ванда.
— А ты не веришь? Плохо ты читала Маркса, Ленина.
— Читала, но мало.
— И я мало. Но я верю.
— Ты счастливый, Павел, потому что ты цельный. За это я тебя люблю. И не в шутку предсказываю: ты станешь профессором.
— И за это любишь?
— Не за это. Так далеко я не закидываю. — И тут же ошеломила неожиданным предложением: — Давай зайдем в костел.
— Ты что! Узнает Тужников…
— Постыдись, Павел! Ты же культурный человек! Это памятник архитектуры. А там увидишь, какое искусство — скульптура, живопись…
Мне и самому хотелось осмотреть необычное учреждение, где вырабатывают опиум для народа; до этого я никогда не был в костеле, да и в церкви — только в детстве. А мне же, в конце концов, по службе надо все знать, все Увидеть.
Но я сделал вид, что глубокомысленно решаю сложную задачу: идти или не идти? Пусть Ванда думает, что я колебался. Все мы любим немного поломаться даже перед близкими людьми.
— Свента Мария! И то я кохам такего тхужа! — по-польски вскрикнула Ванда.
На нас сразу обратили внимание женщины, вышедшие из костела. Остановились, с интересом рассматривали, явно готовые вступить в разговор. И это меня подогнало.
— Пошли, — протянул я своей спутнице руку.
— Не забудь фуражку снять.
— Невысокого ты мнения обо мне.
— Высокого, высокого, не волнуйся.
В костеле было так же тесно, как и на митинге. Но меня интересовали не люди — ослепила роскошь убранства. Я рассматривал пылающие люстры, роспись купола, стен с каким-то особенным волнением и мальчишеским любопытством, действительно как маленький, запрокинув голову. И как маленького, как сынка, вела меня Ванда, крепко сжимая руку, чтобы не потерялся в толпе. Она не пробивалась вперед так, как на митинге или с митинга, она как-то незаметно, тихо и деликатно протискивалась между людьми. Шаг. Пауза. Еще шаг. Мужчины оглядывались на нас с интересом, большинство женщин — недоброжелательно: куда лезете, безбожники?
Сначала необычайно гудел голос ксендза, он ударялся в высокий купол и оттуда, сверху, как бы усиливаясь неизвестной техникой, обрушивался вниз гулким водопадом на головы верующих, хором повторявших: «Навеки векув! Амон!» Хитрый акустический эффект! Он еще больше подействовал, когда все пространство храма заполнила торжественная органная музыка. Однако меня, пожалуй, даже больше интересовали картины. Они такие же, как в Эрмитаже, в котором был однажды и который много раз снился. Очень захотелось «прочитать» их, картины, — узнать сюжет каждой.
Может, впервые стало стыдно, что я так мало знаю и тут, в чужой стихии, чувствую себя полным неучем.
Ванда прошептала:
— Ты неприлично разглядываешь. Не задирай голову. Слушай музыку. Это — Бах.
Ее сообщение несколько ошеломило: немецкий композитор в польском костеле?!
Поводырь мой «завоевывала» рубеж за рубежом и меня тянула за собой, и наконец пробралась в первый ряд.
Из книг я знал, что ксендзы не похожи на лохматых и бородатых попов. Но ксендз, перед которым мы очутились — он стоял за маленькой кафедрой и из толстой книги эффектно, артистическим голосом читал молитву на латинском языке, — удивил меня каким-то слишком уж светским видом. Если не считать одежды — красной сутаны с белой пелериной, моложавое, чисто выбритое лицо и рыжеватые, по-граждански подстриженные волосы делали его похожим на известного артиста, снимавшегося в кино до войны и во время войны. Это сравнение развеселило, и весь храм показался богатым театром. Я даже не удержался и усмехнулся, да как раз тогда, когда ксендз оторвался от молитвенника и глянул на нас. Его, конечно, удивило появление двух молодых советских офицеров перед самым амвоном. Он рассматривал нас, пожалуй, с тем же интересом, с каким я рассматривал его и хор красивых мальчиков в белых одеяниях, стоявший за ним.
Ванда выпустила мою руку, ступила к ксендзу и… упала на колени. О ужас! Удар крови чуть ли не разорвал мне голову, и взрыв этот, казалось, подбросил меня под купол, к нарисованным ангелам. Что она делает? Сумасшедшая! Бешеная! И что делать мне? Ничего. Не схватишь за плечи, не потянешь в толпу. Не выругаешься в храме божьем, не крикнешь: «Встать!»
— Благослав, пшэвелебны ойче, на вальку звыценску, — громко сказала Ванда слова, мне хорошо запомнившиеся, хотя тогда я не совсем понял их смысл.
Ксендз поднял маленькую толстую книжечку, подошел к Ванде и дотронулся книжечкой до ее головы:
— Бондь благословёна, цурко моя.
Толпа верующих колыхнулась, задние нажимали на передних, вместе с другими меня подвинули вперед. Я очутился перед самым ксендзом, лицом к лицу, и, честное слово, испугался, как бы «пшэвелебный ойче» и меня не благословил, а среди верующих, возможно — я не оглядывался назад, — есть наши, такие же разини, как и я. Нет, проницательный психолог, ксендз увидел мою растерянность и только усмехнулся, видимо решив, что мы поспорили и девушка выиграла спор. И еще он, наверно, понял, что отношения у нас интимные, которые обычно связывают однополчан, потому что, когда Ванда поднялась, пожелал: