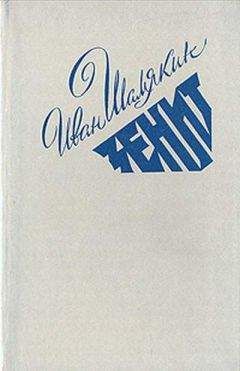— Щенсця вам, дети мое!
— Дзенкуем, свенты ойцец.
Короткий диалог между ксендзом и Вандой меня снова рассердил и испугал: чего доброго, разговор начнет. Нет, Ванда взяла меня за руку, и мы повернули к выходу. И то, как нас проводили прихожане, растрогало. Люди расступились перед нами, создали коридор. Женщины, поглядывавшие враждебно, когда мы протискивались к алтарю, тянулись руками, дотрагивались до Ванды, как до святой. И злость моя потухла, снисходительно, чуть ли не с юмором подумал, что нареченная невеста моя — хорошая артистка: знала, какую реакцию вызовет просьбой благословить ее.
Однако, очутившись под солнцем, под голубым небом — летным, я снова возмутился:
— Ну, дорогая моя, отмачиваешь ты номера. Больше я с тобой никуда не пойду. Хватит с меня! То ты засыпаешь в королевской спальне, то падаешь на колени перед каждым попом. Член партии! Позор! Я сквозь землю готов был провалиться.
— Не провалился же.
— Ты меня доведешь!..
— Доведу… до счастья. — Ха!
Ванда шла притихшая, как бы просветленная, с едва заметной счастливой улыбкой. Это меня выводило из себя. Пусть бы она паясничала, кривляясь как обычно. Тогда было бы понятно, что «выбрик» ее с ксендзом — обычная игра, забава, и я, возможно, посмеялся бы вместе с ней. А то идет как мадонна после причастия. Такой вид не может не навести на мысль, что она «отравлена опиумом» — верующая. Обидно было и за нее и за мою… за нашу воспитательную работу.
После моего «ха!» Ванда остановилась:
— Хочешь, скажу, почему я тянула тебя к ксендзу. Я, еще опускаясь на колени, думала попросить: «Обвенчай нас, ойцец». Но испугалась, что ты возразишь. — Теперь уже в ее ярко-карих глазах прыгали зеленые чертики. — Что ты делал бы, скажи я так?
От неожиданности ее признания, от испуга — что было бы тогда? — я растерялся.
— Не знаю.
— Смолчал бы?
— Может, и смолчал.
— А он спросил бы: «Хочешь ли ты, Павел Шиянок, взять в жены Ванду Жмур?» Что ответил бы?
— Слушай, отвяжись от меня.
— Ах, какая я глупая! Какая глупая! Давай вернемся.
— Знаешь, что такое комбинация из трех пальцев?
— Но мы с тобой не покажем такую комбинацию друг другу. Правда?
Нет, с этой неугомонной полькой лучше не говорить: на нас оглядываются люди, прислушиваются, кто-то из них русский может понимать.
Быстро зашагал вперед, не ориентируясь, куда идти. Но тут же подумал, как это некрасиво. Что скажут европейцы? Советский офицер вынудил женщину идти сзади. Действительно, азиат!
Остановился, повернулся к своей подруге. Вдруг появилась веселая мысль, которая наверняка помирит нас, сгладит мою грубость, и мы хорошо посмеемся.
— Представь физиономию Тужникова, явись мы к нему с объявлением, что повенчались в костеле.
Засмеялся. Ванда скупо улыбнулась.
— В День Победы мы поженимся. — Она жила мечтой о замужестве.
— Обязательно!
У нее вытянулось лицо.
— Ты смеешься?! Я утоплюсь в Варте… в Одере… в Шпрее… где будем… если ты изменишь мне.
— Доберись хотя бы до Северной Двины. Она полноводнее.
— Не паясничай. Я маме написала, что приеду с тобой.
Как обухом ударила. Было не до смеха: перед глазами стояла Любовь Сергеевна Пахрицина.
* * *
Воспоминания как теплое море, оно тянет, из него не хочется выходить. Нет, как алкоголь — от них пьянеешь до головокружения, они то возносят в рай, то проваливают в бездну. Проснешься среди ночи и не можешь заснуть до утра — вспоминаешь. А днем, когда нужно читать лекции, болит голова.
Раньше я записывал события далеких лет, воскрешал образы почти забытых людей от случая к случаю, между своими научными изысканиями, чаще по выходным дням, праздникам, они давали своеобразный отдых, помогали уйти от забот и тревог неспокойной современности. Теперь пишу ежедневно. Папка с работой по истории контрреволюции в Польше, вылившейся в антисоциалистическую деятельность «Солидарности», запылилась, давно не развязывал тесемки на ней. Живу не сегодняшней Польшей. Живу в Познани предпоследнего месяца войны. А может, так хорошо пишется потому, что я обрел спокойствие, избавился от тяжкого груза, который нес двадцать лет? Да и на кафедре, кажется, наступило затишье. Даже Марья стала здороваться со мной почтительно и вежливо. Кланяются ученики, которые недавно отворачивались.
От воспоминаний про первый познаньский день я действительно пьянел. Валя даже ревновать начала к моему «роману». Внучки не мешали, когда я писал серьезные теоретические труды по истории партии. А вчера, может, впервые, когда они подняли шум и любимица моя Михалинка снова обидела Вику, я почти грубо выставил детей из кабинета.
«Не потворствуй ты им. Выгоняй. А то они тебе на шею сядут».
И садились.
Внучки выкидывали перед закрытыми дверьми кабинета такие «коники», что мешали в сто раз больше, чем находясь в кабинете, и я вынужден был пустить их снова.
Но пришла Валя и забрала детей.
— Пошли, девочки, гулять, дадим дедушке натешиться со своими героинями.
— С какими героинями, буля? — Так Мика сократила «бабуля», пыталась и «дедулю» сократить — «дуля», но Марина накричала на дочь: «Не смей!»
— Он расскажет вам. У вас дед — мастер на все руки. Он умеет и на контрабасе и на флейте.
Уколола жена. Но укол ее я, как носорог, ощутил после их ухода. Стало обидно. Однако воспоминания, как рюмка хорошего коньяка, все заглушили. Писал с вдохновением.
Да вскоре вернулась Валя с одной Михалиной, разозленно тянула малышку за руку. Девочка всхлипывала, размазывала грязными ручками слезы, и замурзанное личико ее даже в трагическом плаче казалось задорным, во всяком случае, глазки зыркали очень хитро: хотела разжалобить деда, ожидая моего приговора.
— На твою цацу. Целуйся с ней. Плоды вашего с Мариной воспитания. Стыдно во двор выйти.
Когда дети проказничали, бабушка обвиняла маму и деда.
— Что она натворила?
— Пусть расскажет сама.
Хотел взять Михалинку на руки: очень уж жалостливо она всхлипывала. Но Валя крикнула:
— Не поднимай эту пышку. Хочешь, чтобы, шов разошелся? — недавно мне оперировали грыжу.
Я раздел малышку, платочком вытер лицо.
— Что ты натворила, маленькая моя?
— Ницего я не сказала.
— Почему же так разволновалась бабушка?
— Не знаю.
— Вот же лгунья! А ты посюсюкай с ней, посюсюкай, так она тебе не такое выкинет.
— А что она выкинула?
— Я ничего не кидала!
Валя вернулась в кабинет, цыкнула на Михалину:
— Становись в угол и не пикни!
Девочка послушно уткнулась носиком в стену; непривычная ее покорность растрогала до слез.
— Заплачь. Видишь, как она понимает свою вину?
— А велика вина?
— Стыдно во двор выйти. Что люди будут говорить! Вот как в семье профессора воспитываются дети!
— Да что она отмочила?
— Вот именно — отмочила. Более емкого слова не придумаешь. Она нахамила Майе Витольдовне. Та спросила: «Кого ты, Михалочка, больше любишь — бабушку или дедушку?» А эта «профессорша» сопела-сопела носом и бухнула: «Я могла бы сказать, что ты дура, но я не буду этого говорить».
Сдержаться было невозможно, и я засмеялся. Жена возмутилась:
— От твоего, товарищ профессор, воспитания она еще и не такое сморозит!
— Разве я морозила ее?
— Молчи! До вечера будешь стоять в углу.
Вышел из кабинета, чтобы в прихожей и на кухне посмеяться вдоволь. Представил манерную, чопорную Майю Витольдовну, ее физиономию после Михалининых слов, ее ужас, обиду. Майя — балерина в прошлом и самая молодая пенсионерка во дворе. Одинокая, бездетная, она любила детей, но говорить с ними не умела. Да и со мной странно говорила — неприятно подобострастно, будто от меня зависела ее судьба или, самое маленькое, размер пенсии. А с Микой и Викой слишком сюсюкала: «Голубочки мои! Ласточки!»
Гуляя с детьми, я наблюдал реакцию Михалины на это и давно опасался конфликта. Добрая ласковая Вика смеялась. А Мика без улыбки смотрела из-подо лба, с пренебрежением и на тетю Майю и на сестричку свою. И вот — выпалила. Некрасиво — но смешно. И разумно.
— Я пойду к Вике, — сказала жена. — Милый ребенок — сидит себе в песочнице, лепит домики. А эта так и зыркает, как бы набедокурить. Прошу тебя: не либеральничай. Дай понять, что она поступила нехорошо и должна понести наказание. Вернусь и увижу ее у тебя на шее — имей в виду…
— Ты не знаешь, какой я строгий бываю.
— Слава богу, знаю. Перун.
— Иди, иди, а то Майя не устережет Вику.
— Там Мария Михайловна.
Тихонько, на цыпочках, вошел в кабинет. Михалина стояла там же, но изучала штепсель на шнуре от торшера. Глянула на меня с надеждой. Но я словно бы и не заметил ее — выполнял данное бабушке обещание. Только проверил, заткнута ли вилкой розетка, от нее же, от непоседы этой, затыкали все розетки.