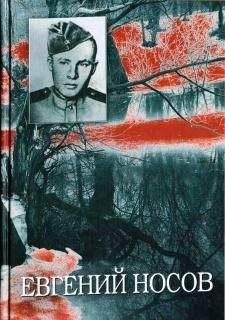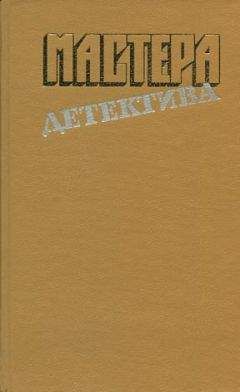Тем же вечером Петрован велел жене Нюше истопить баньку и, пока та носила в котел воду и шебуршала берестой, налаживая пар, он, стащив рубаху и приладив на поленнице косяк битого зеркала, обстоятельно и придирчиво обстриг покороче отпущенную было на волю, не шибко дружную бороденку, а заодно и укоротил лешачьи брови, уже начавшие застить белый свет.
— А ну глянь, ровно ли? — представился он жене, вскинув подбородок.
Нюша, крупная, рукастая женщина, ухватила Петрована за сухонькие остряковые плечи и повертела туда-сюда, сощуренно отстранясь и сведя губы дудочкой.
— Ну, чего? Нигде не торчит?
— Вылитый царь Николай! — усмешливо одобрила Нюша.— Чуток бы росточку и — в самый раз на престол!..
— Ладно тебе! — не принял похвалу Петрован.— Все шуткуешь. А мне на люди идти. Глянь заодно, как там плешка: далече ль расползлась? Мне ить не видно. И зеркало никак не наведу — пляшет все…
— А тебе какая разница? Все одно в картузе пойдешь…
— Оно-то так…— задумчиво потупился Петрован.— Дак бесова печать и под картузом свое берет, человека изводит А ить еще недавно со сна расчесать не мог. А? Нюш? Ужли забыла? И у тебя какая коса была — сущее перевясло! {86} Куда все девалось…
— Туда и девалося…— Нюша шутливо взъерошила легкую седень на детской голове своего суженого и поддала ладошкой под зад, по пустым дряблым штанам.— В чем пойдешь-то: в сапогах али в плетенках? На дворе уже обсохло, можно и в плетенках: эвон сколь пёхать — умаешься, ноги в сапогах набьешь… Оне теперь и вовсе негожи. Сколь им годов-то? Боле полста минуло? Ты в них ишо аж с войны вернулся.
— А чего им сдеется? — Петрован еще раз взглянул на себя, стриженого, в косое зеркальце.— Я в них только на чево важное. Однова в году, а то и реже. Даже подковки целы. Бывало, и за два, и за три года ничего такого, чтоб в сапогах… Правда, последний раз не так давно обувал. Той осенью, на Покрове,— в Ряшнице Сингачёва хоронили, одногодка. Наград — куда больше мово, двенадцать мальчиков несли… Из карабинов палили. Раз, да другой, да третий… Да-а… А больше никуда не хаживал, все чаще в кедах да плетенках. Теперь дак и на похороны не зовут: дорого стало. Приезжего человека надо ж приветить, угол ему определить, опять же и поужинать, и позавтракать. Допрежь так-то было, а теперь не стало, ближними обходятся. Сколь уж за последнее время нашего полку отошло, а я про иных и не знаю. Радио молчит, небось, проволока соржавела, а газет не читаю — опять же накладно… Ты, Нюша, вот чего… Помажь-ка сапоги деготьком, а я, когда помоюсь, в теплой баньке повешу на ночь, они и помягчеют расправят слежалые колдобья. Только голяшки не пудри: кирзу удабривать бесполезно.
После бани, неспешной и расслабляющей, Петрован надел все чистое, запашистое, отутюженное, прибавившее ему довольства и еще большего умиротворения, и так, в исподнем, с незавязанными тесемками на груди и с распушенной головой и округлой ежовой бородкой, похожий на равноапостольного святого — разлюбезного целителя Пантелеймона {87}, с запихнутой за спину подушкой, чтоб ненароком не продуло, не задело задремавший с пару радикулит, пил с Нюшей крутой чай из разговорчивого самовара, в точности отражавшего одной стороной всю его, Петрованову, белизну и заоблачность, тогда как другим боком цветасто пестрел новым Нюшиным халатом. Чаевничали перед окном, распахнутым в майский румяный вечер с золотой полоской над дальним лесом, в завтрашний Велик День, коим в этой избе уже более полувека считалось Девятое мая.
Петрован в таких случаях требовал себе блюдце, придававшее чаепитию особую неспешность и значимость. Испив и накрыв чашку, он сладостно утирался красно размереженным рушничком, им же обмахивался, будто веером, и добродушно говорил что-либо обычно молчавшей Нюше:
— Вот ты давеча: картуз да картуз… Да не картуз вовсе! Не картуз, а фуражка. Фу-раж-ка! Сколь тебе говорить? У картуза околыш просто так, штоб на ушах держался, глаза не застил. А у фуражки околыш со значением. Чтоб издаля было видать, кто перед тобой, в каком войсковом служении. Допустим, идет тебе навстречу чин с красным околышем, кто таков, а? Ну-ка, скажи…
Нюша делает вид, будто не расслышала вопроса, принимается подкладывать Петровану засахаренную клюкву.
— Нет, ты скажи, скажи, не увиливай,— начальственно твердел голосом Петрован…— Кто таков в красном околыше?
— А-а подь ты! Ничево я вашева не знаю.
— Погоди, сразу и не знаю… Я ж тебе про все это рассказывал…
— Забыла я за ненадобностью.
— Ну, вот тебе — за ненадобностью. А ежли я тебе встречусь, то в каком околыше?
— А ляд ево знает…
— Запомни: в черном я буду. В черном!
— А пошто — в черном-то? Али ты хуже всех?
— Танкист я, вот пошто. Танкисты черные околыши носят А еще — артиллеристы. Потому как техника. Сталь да чугун, дым да копоть. Тут красное или зеленое не к лицу. А черное — в самый раз. Это по праздникам. А так, по будням, я в шлеме должен быть. Дак на войне и ходили только в одних шлемах. А фуражек и не было, не успевали получать, потому как праздников не случалось: всё бои да ремонты. Рваную гусеницу закувалдишь — фрикцион полетел… Сходил в атаку — башню заклинило… Да оно зимой фуражка и не по делу: уши только морозить. А ветром сдует, дак потом сколь по снегу бежать за ней…
Когда ходики хлопнули дверцей после одиннадцатого кукования, Нюша окончательно изнемогла и, не убрав посуды, хватая притолоки и простенки, тучно квохча и булькая чаем, убрела в свою каморку. Петрован, вобравший в себя столько банного и самоварного тепла и благодати, потом долго онемело остывал и приходил в себя, сонливо, уморно слушая, как постанывал и покряхтывал старый оседающий дом, а в сухом сосновом стояке, с виду крепком и надежном, мелко строчила невидимая крошечная козява, прогрызая себе новый ход и изводя сердцевину стояка, опору дома в мучную праховину. И лишь когда усталая кукушка вяло оповестила час ночи, Петрован спустил ноги в стоявшие у подножья стула разлатые, надрезанные в голяшках домашние валенки и белым привидением беззвучно прошел к глухому самодельному шифоньеру, все еще угарно отдающему тяжелым смоляным лаком. Из его глубины он извлек свой специальный наградной пиджак и, неся его выше себя через горницу, зацепил крюком вешалки за лобный вырост лосиной лопатины, приколоченной меж горничных окон.
Пиджак был куплен намеренно из темного сукна, чтобы лучше виделись чеканные знаки поощрений. При этом Петрован руководствовался не мелким тщеславием, дескать, глядите, какой я герой, а вековым крестьянским почтением ко всему, что свидетельствовало бы о российской истории, ее поворотах и разворотах, участником которых он чувствовал себя теперь только через этот свой пиджак, лунно отсвечивающий медалями, к которому и Нюша тоже относилась уважительно и даже побаивалась его важной и отутюженной солидности, что, впрочем, не помешало ей набить рукава и внутренние карманы терпкой огородной полынью — от моли. На левой его стороне висело семь медалей: четыре в верхнем ряду, три — в нижнем. Казалось, Петрована приглашали на завтра только затем, чтобы окончательно заполнить нижний ряд недостающей медалью.
По правде сказать, эти знаки на левой стороне уже давно не вызывали у него полностепенного удовлетворения: он испытывал чувство какой-то непричастности к их торжественному побренькиванию и блеску, и когда вынужден был надевать этот свой парад, то ходил на два румба недоразвернуто левым плечом, обремененным ликующей тяжестью медалей. Наверно, причиной такой неуверенности явилось то, что среди его наград не было за оборону Москвы, Сталинграда, Кавказа, Одессы или Севастополя, так же как не было и за взятие Вены, Будапешта или Праги и тем более Берлина. Ничего этого Петрован не оборонял и не брал, потому как никогда не был в тех городах и странах. Просто все его медали имели юбилейный статус, то есть считались не боевыми, а лишь «по случаю» и «в ознаменование», что и заставляло Петрована носить их как бы бочком, с застенчивой отрешенностью. К тому же, как говорили иногда между собой старые солдаты, наградного кругляша, заменившего все остальные знаки внимания и поблажки, с годами становилось лишковато, а его звон все дробней и чешуйчатей, что вовсе не прибавляло славы и твердости в поступи, а только вызывало снисходительные улыбки заматеревших внуков.
Это всё — на левой стороне бравого пиджака, тогда как на противоположной, у края лацкана, где-то ниже ключицы, одиноко обозначалась темной эмалью «Красная Звезда», ничем не приукрашенная, без взблесков и сияний, в своем простом естестве больше похожая на солдатскую шапочную эмблему, нежели на боевой орден, долженствовавший вызывать у зрящих незаурядность свершенного. А между тем сей одинокий знак, некогда почему-то отнесенный статусом на пустую левую сторону, Петровану был дороже и родственней всех остальных семи, издававших главный звон при параде. Порой, взглянув на него, Петрован все еще испытывал внезапный сердечный толчок, горячо обжигающий подреберье, наверное, оттого, что воочию ощущал в бордовой, как бы загустелой пятиконцовой заливке ордена собственную спекшуюся кровь, в которую, казалось, и теперь можно было макнуть палец… Однако все свое наградное хозяйство Петрован блюл и содержал в надлежащем порядке, никакой чеканке не отдавал предпочтения, а каждую обстоятельно протирал обмакнутой в соду льняной тряпицей, давая просохнуть, и затем уж принимался гонять бархоткой. После такой процедуры, совершаемой в полном одиночестве глубокой ночи или когда никого нет дома, Петрован помещал каждую воссиявшую награду в целлофановый пакетик от сигарет. Приходящиеся весьма кстати пакетики он заведомо собирал и в такой оболочке оставлял медали висеть на пиджаке до очередного выхода.