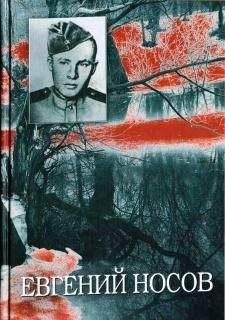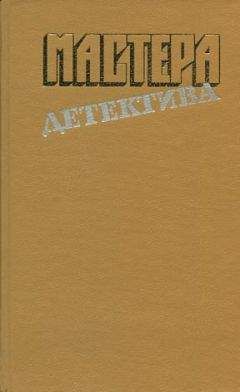Это всё — на левой стороне бравого пиджака, тогда как на противоположной, у края лацкана, где-то ниже ключицы, одиноко обозначалась темной эмалью «Красная Звезда», ничем не приукрашенная, без взблесков и сияний, в своем простом естестве больше похожая на солдатскую шапочную эмблему, нежели на боевой орден, долженствовавший вызывать у зрящих незаурядность свершенного. А между тем сей одинокий знак, некогда почему-то отнесенный статусом на пустую левую сторону, Петровану был дороже и родственней всех остальных семи, издававших главный звон при параде. Порой, взглянув на него, Петрован все еще испытывал внезапный сердечный толчок, горячо обжигающий подреберье, наверное, оттого, что воочию ощущал в бордовой, как бы загустелой пятиконцовой заливке ордена собственную спекшуюся кровь, в которую, казалось, и теперь можно было макнуть палец… Однако все свое наградное хозяйство Петрован блюл и содержал в надлежащем порядке, никакой чеканке не отдавал предпочтения, а каждую обстоятельно протирал обмакнутой в соду льняной тряпицей, давая просохнуть, и затем уж принимался гонять бархоткой. После такой процедуры, совершаемой в полном одиночестве глубокой ночи или когда никого нет дома, Петрован помещал каждую воссиявшую награду в целлофановый пакетик от сигарет. Приходящиеся весьма кстати пакетики он заведомо собирал и в такой оболочке оставлял медали висеть на пиджаке до очередного выхода.
И вот завтра, на рассвете, он натянет остро пахнущие сапоги, пройдется в них туда-сюда, примеряясь к неблизкой ходьбе, потом, поплескавшись под кухонным рукомойником-чурюканом, обрядится в летнюю комсоставскую рубаху в четких квадратах лёжки, привезенную племянником аж из самой Москвы для таких вот случаев, разберет на две стороны остатки своего русокудрия: поменьше — на правый висок, побольше — на проступившее темечко, непослушный пробор смочит с руки чайной заваркой и, оглядев себя в зеркале, подведет некий итог: «Не сказать, што герой, но уже и не лешай». И лишь перед самым выходом торжественно и бережно наденет всегда готовый, отутюженный пиджак, ожидающий его на лосином роге, снимет с медалей целлофановые сигаретные обертки, энергично, до звука воссиявшей бронзы одернет его полы и на всю дорогу построжает лицом, помеченным над левой бровью багровым шрамом.
Дорога в район не длинная, но бестолковая. Прежде, при советах, мимо Брусов раза четыре за день пробегал пазик: полчаса — и там. Пока картошка варится, можно было смотаться за камсой и хлебом. Нынче автобусик куда-то подевался, и приходится сначала верст пять пёхать в обратную от района сторону, а потом уж — на электричке. Да и то: электричка приходит не в город, а на станцию, от которой еще топать и топать до центра. Или гони еще два рубля за вокзальный автобус. Правда, с Петрована, особенно когда он весь в медалях, не брали ни копейки.
Петрован при такой крутне не успел в одночасье справиться со своими делами и воротился домой аж на другой день.
Он вошел в родные Брусы, устало опав плечами, перехлестнутый прямо по медалям пеньковым шнурком с бубликами, которые в последнюю минуту купил в электричке. От пыли его надегтяренные сапоги сделались похожими на серые валенки, и шоркал он ими нетвердо, с подволоком, как в старых, разлатых пимах. Фуражку с черным околышем он нес в руке, а вместо вчерашнего пробора на голове трепетал спутанный ковылек, светлым нимбом серебрившийся против солнца.
Первыми, еще у околицы, встретились ребятишки, Колюнок и Олежка, весь день выглядывавшие его на дороге.
— Дядь Петрован,— канючили они, семеня обочь.— Получил медалю? А дядь Петрован?
— Подьте вы…— продолжал брести Петрован.
— Покажь, а?
— Эки репьи!
— Пока-а-ажь. Хоть издаля…
— Ну, че? — остановился наконец Петрован.— Че показывать-то? Ну, вот она…— Петрован выколупнул из-под деревянно загремевших бубликов яркий, совсем новый бронзовый кругляш с каким-то дядькой, одной только головой во всю окружность…— Вот она…
Колюнок и Олежка вытянулись молодыми петушками, затаенно примолкли.
— Хоро-о-шая! — едино признали они.— Эко блестит!
— Блестит-то она блестит…— сокрушился Петрован.— Да… как вам сказать, ребятки… Не моя она…
— Как — не твоя? — вроде как испугался Колюнок.
— Ты ее нашел? — раскрыл рот и Олежка.
— А-а…— трехпало махнул Петрован и, заломив несколько бубликов, насыпал румяного крошева в черных маковых мушках в подставленные ладошки.— Давай, мыши, грызите… Вам этого не понять…
Над его избой струилось бездымное прозрачное маревце, пахло печеным. Это означало, что Нюша, дожидаясь его с наградой, истопила печь и напекла шанег. Но домой он, однако ж, не пошел, а, минув еще три избы, свернул к четвертой, Герасимовой.
Немогота хозяина удержала его жену Евдоху выставлять зимние рамы, а потому в избе накопилась испарина, запотелые окна тускло, заплаканно глядели на волю. К духу упревших щей, заполнявшему жилье по самые матицы {88}, примешивался пронырливый, как буравец, запах валерьянки — от Герасима, из его каморы.
— Ляжит… Ох, ляжи-ит!..— сразу заголосила согбенная, встрепанная Евдоха, увидев на пороге Петрована.— Проходь, проходь к нему, касатик. То-то буде радый! А то нихто ничево… Слова днями не слышит. Одна я… Ну, да я ж ему че путного скажу-то?.. Очертела, поди… Хуже скрипа колодезного… Вот ждал-ждал внуков — по головке погладить, а и те по чужим городам… Кабысь не себе рожали… Наказание господне… Проходь, проходь, Петя…
— Кто там прише-ел?..— квело донеслось из-за горничной глуби, следом послышался сухой свистящий кашель и долгий изнуренный стон.
— Иди, не бойся,— подбодрила Евдоха.
Сняв с себя бублики, Петрован обладил виски, и, невольно приподняв плечи, как бы крадучись, ступил в горничный проем. Слабо мерцавший в углу святой Николай приветно покивал ему огненным острячком лампады, и тот ответно осенил себя торопливой щепотью, отчего на его груди тонкой звонцой загомонили медали, услышанные, однако, Герасимом.
— Да кто там? Петрован… ты, что ли?
— Да я, я… Кому ж еще…
— Че дак… путаешься? Ай ход забыл?
— Дак иду. Вот он я!..
В мерклом, безоконном застенке Герасим дожидался его в своей кровати, нетерпеливо приподнявшись на локте. Он был в исподней рубахе, бледно-желт иссохшим лицом, оснеженным на скульях и подбородке сивой недельной небритостью. Петрован неловко поддел под Герасима руки, обнял его, как если бы то был мешок с чем-то, и, сам сбившись с дыхания, поздравил с ветеранским праздником.
— А рази не завтра? — усомнился Герасим, обессиленно отвалясь на подушку.
— Не, братка. Седни аккурат девятое число. В районе прям на домах написано. И флаги кругом…
— Ага… Может, и так… А я лежу тут, в застенке… Только мухи и гундят… Деньки стороной обегают, без меня обходятся. Намедни будильник и тот итить отказался… Вконец свое истикал… Дак и я тоже…
— Давай посмотрю,— предложил Петрован, еще умевший ладить часы, правда не дюже мелкие.
— А-а…— Герасим прикрыл темные, отяжелевшие веки.— Теперь и ни к чему… Часом больше, часом меньше… Тут, без окон, все едино: што день, што ночь…— и, взяв с приставленной тумбочки ложку, позвякал ею по белой эмалевой кружке.
На стук объявилась настороженная Евдоха.
— Че тебе?
— Как это — че? День Победы нонче! Вон и гостьва пришла — Петр с Иваном. У тя нету ли маленько? От Степки, кажись, оставалось?
— Осталось, дак на дело: когда че заболит…
— Вот и давай…
— Дак тебе низя! — воспротивилась Евдоха.
— Ладно — низя. Не твое дело.
— Как же — не мое? А за «скорой помочью» кому бечь? К телехвону? Четыре версты до сельсовету. Тот раз побегла, а там — замок, работа кончилася. Благо Митрохин малый на мотоцикле попался, домчал до станции. Дак чуть не обмерла рачки сидеть. А он, блудень, как нарочно — по кочкам да по калюжам… Ужасть чево натерпелася…
— Ладно тебе маневры делать, зубы заговаривать. Ить же сказано: День Победы! Чево ишо говорить? Тут не можешь, а — надо… Огурчиков-помидорчиков тоже подай…
— Май на дворе — какие огурчики?
— Ну чево найдешь…
— Да чё я найду-то? Али не знаешь? Ждите, картохи наварю. А то вон Петрован «ноликов» принес… Целую снизку.
Козюлилась-козюлилась баба, а чуть спустя, сгорнув с тумбочки аптечные пузырьки и все остальное ненужное, принесла миску квашеной капусты, перемешанной с багряными райскими яблочками, подала в глиняной чашке рыжичков в ноготь, так и оставшихся оранжево-веселыми еловичками, потом — тертый хрен, запахом затмивший и квашеную капусту, и бочковые грибки. Уж больше и ставить некуда, но, потеснив посудинки на самую середину тумбочки, Евдоха водрузила жаркую сковороду с шепеляво говорившей глазуньей. И лишь после всего внесла сразу на обеих ладонях, как бы притетешкивая на ходу, бутылку «Стрелецкой степи», располовиненную еще сыном Степаном, нечаянно нагрянувшим зимой из своих Челнов по случаю командировки.