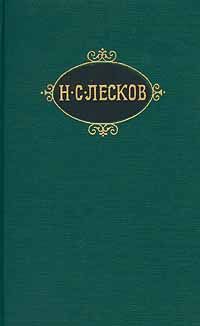Николай Лесков
Отборное зерно
Краткая трилогия в просонке
Спящим человеком прииде враг и всея плевелы посреди пшеницы.
Мф. XII, 25
Желание видеть дорогих друзей заставляло меня спешить к ним, а недосуг дозволял сделать нужный для этого переезд на самых праздниках. Благодаря таким условиям я встречал Новый год в вагоне. Настроение внутри себя я чувствовал невеселое и тяжелое. Учители благочестия внушают поверять свою совесть каждый вечер. Этого я не делаю, но при окончании прожитого года благочестивый совет наставников приходит на память, и я начинаю себя проверять. Делаю я это сразу за целый год, но зато аккуратно всякий раз остаюсь собою всесторонне недоволен. В нынешний раз мое обычное неудовольствие осложнилось еще и досадами на других – особенно на князя Бисмарка за его неуважительные отзывы о моих соотечественниках и за его недобрые на наш счет предсказания. Его железная грубость позволила ему прямо и без застенчивости сказать, что России, по его мнению, только и остается «погибнуть». Как, за что «погибнуть»?! И пошло думаться и выходить: будто как и есть за что, – будто как и не за что? А кругом меня все спит. Пять-шесть пассажиров, которых случай послал мне в попутчики, все друг от друга сторонились и все храпят в каком-то озлоблении.
И стало мне стыдно от моей унылости и моего пустомыслия. И зачем я не сплю, когда всем спится? И какое мне дело до того, что сказал о нас Бисмарк, и для чего я обязан верить его предсказаниям? Лучше ничего этого «внятием не тешить», а приспособиться да заснуть, яко же и прочие человецы, и пойдет дело веселее и занимательнее.
Так я и сделал: отвернулся от всех, ранее оборотившихся ко мне спинами, и начал усиленно звать сон, но мне плохо спалось с беспрестанными перерывами, пока судьба не послала мне неожиданного развлечения, которое разогнало на время мою дремоту и в то же время ободрило меня против невыгодных заключений о нашей дисгармонии.
С платформы у одного маленького городка вошли два человека – один легкий на ногу, должно быть молодой, а другой – грузнее и постарше. Я, впрочем, не мог их рассмотреть, потому что фонари в вагоне были затянуты темно-синей тафтою и не пропускали столько света, чтобы можно было хорошо рассмотреть незнакомые лица. Однако я сразу же расположен был думать, что новые пассажиры принадлежат не только к достаточному, но и к образованному классу. Они, входя, не шумели, не говорили очень громко и вообще старались, сколько можно, никого не обеспокоить своим приходом, а расположились тихо и снисходительно там, где нашлось для них свободное сиденье. По случаю это пришлось очень близко от того места, где я дремал, забившись в темный угол дивана. Волей-неволей я должен был слышать всякое их слово, если бы оно было сказано даже полушепотом. Это так и вышло, и я на то нимало не жалуюсь, потому что разговор, который повели тихо вполголоса мои новые соседи, показался мне настолько интересным, что я его тогда же, по приезде домой, записал, а теперь решаюсь даже представить вниманию читателей.
По первым же словам, с которых здесь начали новые пассажиры, видно было, что они уже прежде, сидя в ожидании поезда на станции, беседовали на одну какую-то любопытную тему, а здесь они только продолжали иллюстрации к положениям, до которых раньше договорились.
Говорил из двух пассажиров один, у которого был старый подержанный баритон – голос, приличный, так сказать, большому акционеру или не меньше как тайному советнику, явно разрабатывающему какие-нибудь естественные богатства страны. Другой только слушал и лишь изредка вставлял какое-нибудь слово или спрашивал каких-нибудь пояснений. Этот говорил немного звонким фальцетом, какой наичаще случается у прогрессирующих чиновников особых поручений, чувствующих тяготение к литературе.
Начинал баритон, и речь его была следующая:
– Я вам сейчас же представлю всю эту нашу социабельность в лицах, и притом как она выразилась зараз в одном самом недавнем и на мой взгляд прелюбопытном деле. Случай этот может вам показать, что наш самобытный русский гений, который вы отрицаете, – вовсе не вздор. Пускай там говорят, что мы и Рассея, и что у нас везде разлад да разлад, но на самом-то деле, кто умеет наблюдать явления беспристрастно, тот и в этом разладе должен усмотреть нечто чрезвычайно круговое, или, так сказать, по-вашему, «социабельное». Бисмарк где-то сказал раз, что России будто «остается только погибнуть», а газетные звонари это подхватили, и звонят, и звонят… А вы не слушайте этого звона, а вникайте в дела, как они на самом деле делаются, так вы и увидите, что мы умеем спасаться от бед, как никто другой не умеет, и что нам действительно не страшны многие такие положения, которые и самому господину Бисмарку в голову, может быть, не приходили, а других людей, не имеющих нашего крепкого закала, просто раздавили бы.
– Прелюбопытно ставите вопрос, и я охотно вас слушаю, – заметил фальцет.
Баритон продолжал:
– Если бы я готовил к печати те три маленькие историйки, которые хочу рассказать вам о нашей социабельности, то я, вероятно, назвал бы это как-нибудь трилогиею о том, как вор у вора дубинку украл и какое от того вышло для всех благополучие жизни. Впрочем, как нынче уже, можно сказать, всякий даже шиш литератора из себя корчит, то и я попробую излагать вам мою повесть литературно… Именно, разделю вам мой рассказ по рубрикам, вроде трилогии, и в первую стать пущу интеллигента, то есть барина, который, по мнению некоторых, будто бы более других «оторван от почвы». А вот вы сейчас же увидите, какие это пустяки и как у нас по родной пословице «всякая сосна своему бору шумит».
Поехал я летом странствовать и приехал на выставку. Обошел и осмотрел все отделы, попробовал было чем-нибудь отечественным полюбоваться, но, как и следовало ожидать, вижу, что это не выходит: полюбоваться нечем. Одно, что мне было приглянулось и даже, признаться сказать, показалось удивительно – это чья-то пшеница в одной витрине.
В жизнь мою я никогда еще такого крупного, чистого полного зерна не видывал. Точно это и не пшеница, а отборный миндаль, как, бывало, в детстве видал у себя дома, когда матушка к Пасхе таким миндалем куличи украшала.
Посмотрел я на подпись и еще больше удивился: подписано, что это удивительное, роскошное зерно собрано с полей моей родной местности, из имения, принадлежащего соседу моих родственников, именитому барину, которого называть вам не стану. Скажу только, что он известный славянский деятель, и в Красном кресте ходил, и прочее, и прочее.
Я знал этого господина еще в гимназии, но, признаться, не питал к нему приязни. Впрочем, это еще по детским воспоминаниям – потому что он сначала в классе всё ножички крал и продавал, а потом начал себе брови сурмить и еще чем-то худшим заниматься.
Думаю себе: пожалуй, и здесь тоже обман! Небось где-нибудь купил у немецких колонистов куль хорошей пшеницы и выставил будто с своих полей.
Рассуждал я таким образом, потому что наши поля ржаные, и если родят пшеничку, то очень неавантажную. Но чтобы не осуждать долго своего ближнего, пойду-ка, думаю, лучше в буфет, выпью глоток нашего доброго русского вина и кусок кулебяки съем. За сытостью критика исчезает.
Но только я занял в ресторане место, как замечаю, что совсем возле меня сидит господин, с виду мне как будто когда-то известный. Я на него взглянул и отвел глаза в сторону, но чувствую, что и он в меня всматривается, и вдруг наклонился ко мне и говорит:
– Извините меня, если я не ошибаюсь – вы такой-то?
Я отвечаю:
– Вы не ошиблись, – я действительно тот, кем вы меня назвали.
– А я, – говорит, – такой-то, – и отрекомендовался. Надеюсь, вы можете догадаться, что это был как раз тот самый мой давний товарищ, который в гимназии ножички крал и брови сурмил, а теперь уже разводит и выставляет самую удивительную пшеницу.
Что же, и прекрасно: гора с горою не сходится, а человеку с человеком – очень возможно сойтись. Мы перекинулись несколькими вопросами: кто, откуда и зачем? Я говорю, что так, просто, как Чичиков, езжу для собственного удовольствия. А он шутливо подсказывает: «Верно, обозреваете».
– Не обозреваю, – говорю, – а просто для своего удовольствия посмотреть хочу.
А он рекомендует себя экспонентом и объявляет, что пшеницу выставил.
Я ответил, что заметил, уже его пшеничку, и полюбопытствовал, из каких это семян и на какой именно местности росло? Все объясняет речисто, – так режет со всеми подробностями. Я снова подивился, когда узнал, что и семена из нашего края, и поля, зародившие такое удивительное зерно, – смежны с полями моего брата.
Дивился, повторяю вам, потому, что край наш никогда прежде не родил очень хорошей пшеницы. А он отвечает:
– Ну, да то было прежде, а теперь и у нас совсем не то. Особенно у меня в хозяйстве. С старым этого равнять нельзя. Большая разница, большая, батюшка, во всем произошла перемена с тех пор, как вы отбыли из нашей губернии достигать чинов и знатности да легких капиталов смелыми оборотами. А мы, батюшка, как муромцы, – сидим на земле, сидели и кое-что высидели и дождались. Теперь опять наше дворянское время начинается, а ваше, чиновничье, проходит. Люди вспомнили дедовскую поговорку, что «земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток». Мы, дворяне, обернулись к сохе и по сторонам не зеваем, – мы знаем, что не столица, а соха нас спасет.